Проблема определения исторического региона в Западной Сибири
Рассматриваются теоретические проблемы определения аутентичных территориальных рамок исторических исследований. В качестве иллюстрации используется фактический материал по истории Западной Сибири и Зауралья в период русской колонизации в XVII-XX вв. Делается вывод об операциональном характере используемых в исторических исследованиях территориальных рамок. Рассмотрение в качестве примера Зауралья с его семантической неопределенностью при использовании соответствующих теоретических подходов тем не менее дает вполне удовлетворительный позитивный результат, позволяя частично преодолеть изначально указанную неопределенность.
Problem of definition of the historical region in Western Siberia.pdf Определить, что такое исторический регион, не так просто, как кажется. Проблема эта не представляет больших трудностей для географа, поскольку он понимает, что любой регион имеет достаточно условные границы, так же как и любой образованный историк понимает условность всякой периодизации. Проводить границы по земле немногим легче, чем проводить их во времени. К сожалению, многие историки, определяя географические рамки своего исследования, зачастую подходят к этому механистически, руководствуясь, прежде всего, административными границами. Поэтому необходимо сказать несколько слов о том, что такое локальная история и каковы территориальные границы локальных общностей. Выделение региона, в географических пределах которого будет осуществляться историческое исследование, представляет для историка такую же трудность, как определение хронологических границ. Эта трудность имеет два аспекта - теоретический и практический. На теоретическом уровне необходимо определить, какой именно исторический регион следует изучать и почему именно этот. Так, например, если необходимо исследовать генезис феодализма в Европе, то выбор надо остановить на Франции, а не на России или Польше, поскольку именно французский феодализм является типичным и был во многом предметом подражания и заимствования. Практический аспект состоит в определении конкретных границ исторического региона. Границы на протяжении веков менялись, центры становились перифериями, и наоборот. Зачастую возникает соблазн взять в качестве исследования те административные границы, которые существовали на период изучения. Иногда это оправдано, поскольку статистические и иные данные, как правило, сгруппированы именно по такому региональному признаку. Кроме того, в архивах документы также зачастую сгруппированы по территориальному признаку. Однако существует одна опасность. В рамках одного региона не всегда присутствует в равной мере то, что мы изучаем. Например, имея дело с историей Тобольской губернии, следует помнить, что она была одной из крупнейших в Российской империи. При этом практически не освоенный русскими север губернии сильно отличался от аграрного юга. При изучении таких проблем, как медицина, образование, культурно-бытовые традиции и т.д., надо принять во внимание, что в качестве географической составляющей предмета исследования часто не имеет смысла брать всю губернию, если фактически рассматриваются только ее южные (или северные) уезды. Подобные же проблемы могут возникнуть и при изучении других регионов. Скажем, границы средневековой Франции были весьма размыты и совсем не совпадают с ее нынешними рубежами. Здесь большую помощь могут оказать историческая география, знание естественных границ региона, ареала расселения той или иной этнической группы. До известной степени нашим европейским колле-гам-историкам повезло. Работая с региональной историей, они имеют дело с исторически сложившимися областями, как, например, Бургундия во Франции, Тоскана в Италии или Швабия в Г ермании. Здесь стоит отметить, что в немецкой исторической географии еще в конце XIX в. заметным влиянием пользовалось учение Карла Риттера, которое находилось под заметным влиянием романтического идеализма. Для Риттера и его последователей регионы были почти мистической реальностью, особыми индивидуальностями, созданными Творцом и данными человеку, чтобы тот обжил их в соответствии с божественным предназначением. Такие регионы существуют сами по себе и не зависят от точки зрения историка или географа [1. С. 46, 51, 55]. Подобные представления не получили широкого распространения и вскоре стали достоянием истории науки. В таком случае, даже имея дело с исторически сложившимися областями, необходимо установить, насколько их пределы подходят для изучения историка. Это необходимо в связи с тем, что исторические области неравноценны с исторической точки зрения по таким категориям, как население, площадь, исторические события и сохранившиеся источники. В этом смысле более походит термин «исторический регион», тем более что он может быть не привязан к границам исторической области. Кроме того, административные В.В. Менщиков, И.С. Менщиков 32 единицы не всегда совпадали с границами исторических областей. Наряду с этим стоит отметить, что многие документы нового и новейшего времени (в особенности статистические) охватывают именно эти административные, а не исторические области. Практически все географы согласны с тем, что регион - понятие субъективное, которое выделяется исследователем по своему усмотрению. Это, однако, не приводит к субъективизму в географии. Это лишь означает, что географ сам определять для себя точки, по которым пройдут границы региона в соответствии с поставленными им целями [1. С. 45-46]. Сходным образом следует поступать и историку. Во французской историографии, где хорошо разработана теория локальной истории, есть несколько подходов к делению пространства. Один из самых простых предложил признанный мэтр французской локалисти-ки Э. Ле Руа Ладюри. Он высказал мнение, что в качестве основных единиц-регионов нужно рассматривать исторические провинции, такие как, к примеру, Бретань во Франции. Вместе с тем в основу определения регионов легли и этнические составляющие. Правда, для Франции этнические границы и границы исторических областей зачастую совпадают. Во всяком случае, эта точка зрения справедлива, по мнению Ле Руа Ладюри, для этнических меньшинств (эльзасцы, бретонцы, руссильонцы и т.д.). Таким образом, история региона связана с историей населяющего его народа (в этнологическом смысле этого слова), который, хотя и подвергся ассимиляции и в чистом виде этносом считаться уже не может, тем не менее сохранил черты самобытности [2. С. 9-16]. Применительно к России, надо признать, этот подход годится только для ее европейской части, да и то с известными оговорками: а существуют ли в России такие же исторические провинции, как во Франции или Италии? Принимая во внимание административно-территориальную чехарду, характерную для России последние шестьсот лет, -завоевания, сокращение, а затем резкое увеличение территории, - ответ на этот вопрос, по всей видимости, будет отрицательным. Едва ли мы найдем на территории, заселенной ныне русскими, исторические провинции, аналогичные Шампани или Бургундии во Франции либо Пьемонту или Тоскане в Италии. Другой подход к решению данной проблемы предлагает не менее крупный французский историк Ф. Бродель. В качестве наименьшей единицы (региона), на которые распадается государственная территория, он рассматривает «землю» (pays), т.е. город и его окрестности, центром притяжения которых он выступает. Таковы, к примеру, город Бове и «страна», или «земля», Бовези [3. С. 18-36, 135]. Данный подход представляется более подходящим для выделения регионов в России. В самом деле, относительно небольшие средневековые русские княжества группировались вокруг городов-центров (Ярославское, ВладимироСуздальское и т.д.) Однако централизованное государство нередко нарушало такие целостности, как умышленно, так и для удобства управления. Намного более сложной ситуация предстает в восточных регионах страны, таких как Урал, Сибирь и т.п., где плотность населения была невелика и существовало смешение территориально-административных единиц и мест проживания различных этносов или различных систем хозяйствования. До включения этих земель в состав Русского государства они входили в состав Сибирского ханства, границы которого тоже не отличались стабильностью. В его рамках существовали территории, занятые различными кланами и племенами. После того как Западная Сибирь вошла в состав Московского царства, территориальное деление подчинялось военным и административным нуждам. Это породило территориальную нестабильность региона, которая особенно характерна для XVIII в., когда административные границы разного рода территорий (губернии, провинции, дистрикты и т.п.) менялись очень быстро во всей России. Стабильность наступила только после реформ Екатерины II в 70-80-е гг. XVIII в. Применительно к Западной Сибири в 1781-1783 гг. эти мероприятия правительства вылились в создание Пермского и Тобольского наместничеств. В состав первого вошли зауральские уезды: Камышловский, Верхотурский, Шадринский и Ирбитский [4. С. 69]. Второе включало в себя почти всю территорию Сибирской губернии и состояло из Томской и Тобольской областей, которые впоследствии стали губерниями. После этого значительных территориальных изменений западносибирский регион не претерпел. Менялись в основном названия административных единиц: уезды становились округами, затем снова уездами. Такие административные перемены создают большие трудности для исследователей истории Западной Сибири. Это связано не только с тем, что административное устройство региона в дореволюционной России не совпадает с современным, но и с тем, что существует опасность выбрать в качестве исследования административную единицу XVIII-XIX вв. В тех случаях, когда это продиктовано предметом исследования (администрация, налоги, суд), такой подход вполне уместен, но как поступить, если рассматриваются торговля, история повседневности, культура и т.д.? Самое простое - пойти по пути выделения исторического региона в рамках территориально-административной единицы (губерния, уезд, в советское время -область). На данный путь подталкивает и источнико-вая база, коль скоро статистика и делопроизводство присутствуют именно по отдельной губернии или уезду. Но что даст такой подход применительно, скажем, к Тобольской губернии, которая была едва ли не самой большой в Российской империи? Тем не менее существует немало исследований, посвященных образованию, грамотности, медицине, промышленности и сельскому хозяйству этой территории. Зачастую исследователи охватывают лишь 3-4 южных округа / уезда. Если речь идет о Пермской губернии, то довольно трудно сопоставить ее предуральскую, уральскую и зауральскую части, как это видно хотя бы на примере знаменитого обзора данной губернии, составленного Х. Мозелем. Здесь и районы вокруг самой Перми, и северные земли, заселенные коми-пермяками (зырянами), и горнозаводской Урал, и зауральские уезды, более близкие по хозяйственно-экономичес- Проблема определения исторического региона в Западной Сибири 33 кому укладу к округам Тобольской губернии (Шад-ринский, Камышловский и др.) [5]. Более продуктивным представляется в этой связи комплексный подход к выделению региона. Он предполагает несколько параметров, связанных между собой. Конечно, нельзя исключать административно -территориального деления, тем более что источники формировались чаще всего именно по этому признаку. Не менее важен географический фактор, поскольку природная среда оказывает существенное влияние на культурную, хозяйственную и иные сферы деятельности. Это обстоятельство надо учитывать, когда речь идет, допустим, о горных и равнинных уездах Пермской губернии или Барабинской степи и Тарском округе / уезде. Кроме того, необходимо учитывать тип хозяйственной деятельности. Так, к северу от Тобольского уезда преобладало присваивающее хозяйство, в то время как к югу было чрезвычайно развито земледелие, а на юго-востоке - кочевое скотоводство. Наконец, нельзя отбрасывать этнический фактор при определении исследуемого региона. Для Урала и Сибири характерно компактное проживание отдельных этнических групп, поэтому, определяя территориальные рамки исследования, необходимо помнить, что на таких территориях могли быть принципиально иные формы культуры и хозяйственной деятельности. В этой связи достаточно интересным представляется подход, предложенный О.Г. Завьяловой [6], которая выделяет указанные составляющие при определении границ регионов и более мелких территориально -географических единиц, а также приводит иные, на наш взгляд, менее важные для историка. Каковы же должны быть подходы к определению исторического региона и как подходить к определению его границ? Прежде всего, по нашему мнению, следует четко понять, что исторический регион - мысленный конструкт. Как, к примеру, определить, где заканчивается Урал и начинается Сибирь? Определение границ с учетом лишь административных рубежей затемнит проблему, как это было показано выше на примере Тобольской губернии. В основу выделения региона должны быть положены исторические реалии, а не исторические границы. В этом случае следует, на наш взгляд, учитывать административно-территориальное деление, природные ландшафты (таежная часть Тобольской губернии резко отличается от лесостепной), этнический состав населения, его хозяйственные занятия. Это позволит более объективно посмотреть на прошлое региона, избавит он необходимости загонять исследователя и исследование в Прокрустово ложе современных представлений о том, как сейчас выделяется этот регион. Постараемся применить означенные нами выше принципы при определении конкретного исторического региона, а именно Зауралья. Как совершенно справедливо отмечает Д.Н. Замятин, «сама специфика освоения пространств России привела к слабой структурированности ее регионов и неоднозначности различного рода геоэкономических границ» [7. C. 167]. Именно вследствие этого в отечественной традиции принято оперировать такими семантически размытыми понятиями, как Зауралье, Забайкалье и т.п. «Нечеткость границ геоэкономических пространств способствует выделению своеобразных геоэкономических образов, которые выступают в данном случае как их устойчивые ядра» [Там же]. Поэтому оказывается легче выявить основное ядро региона, чем определить его конкретные границы. Большая часть российских историко-географических областей осознаются как ярко выраженные ядра с весьма расплывчатой периферией -Прикамье, Приобье, Приамурье, Поволжье (территории вдоль соответствующей реки), Предуралье, Забайкалье, Зауралье, Приморье (территории, прилегающие к горам или крупным водным объектам) и т.п. Но где границы всех перечисленных территорий, где, например, заканчивается Зауралье и начинается Западная Сибирь, оказывается, определить очень сложно. Ойконим «Зауралье» начинает устойчиво употребляться с первой половины XIX в. и первоначально, как известно, обозначал восточные сельскохозяйственные уезды Пермской губернии, в каком-то смысле выступая пространственно-смысловой оппозицией территории горнозаводского Урала. Однако ни в это время, ни значительно позже (на рубеже XIX-XX вв., в первой половине ХХ в.) он широкого распространения не получил. С большим трудом этот ойконим можно найти в литературе того времени. Своеобразный ренессанс произошел во второй половине ХХ в. «Зауралье» оказалось «присвоено» Курганской областью, возникшей в 1943 г. Но по-настоящему этот термин стал ассоциироваться с данной областью лишь с 1990-х гг. Еще в советское время главная областная газета получила название «Советское Зауралье», так же называлось и ведущее издательство. На рубеже 1950-1960-х гг. курганский историк А.А. Кондрашенков вводит термин «Зауралье» в научные исторические тексты. В новейшее время производные от этого наименования стали возникать повсеместно, приобретая институциональный статус. Главная информационная программа -«Вести Зауралья», газеты «Зауралье», «Зауральский курьер», издательство «Зауралье», Зауральский отдел Русского географического общества, курганский ЦУМ был переименован в «Зауральский торговый дом», многочисленные коммерческие организации - банк «Зауральский бизнес», «Зауралинвест» и т.д. В дальнейшем необходимо выяснить, какую роль в этом сыграли интеллектуальные сообщества, насколько целенаправленно и с какой степенью осознанности проходил процесс присвоения этого ойконима. Но именно с начала 1990-х гг. курганские историки начали целую серию исследований, в которых «Южное Зауралье» и «Зауралье» стали основными территориальными единицами научных изысканий [8-10]. Это, по всей видимости, было связано с общей атмосферой усиления центробежных политических сил после распада Советского Союза, углубления процесса регионализации, порой переходящего в скрытый или даже открытый сепаратизм отдельных регионов России. В некоторых субъектах федерации эти умонастроения приобретали специфический вид поиска, а затем и символического присвоения дополнительного наименования, имевшего глубокие исторические корни, что В.В. Менщиков, И.С. Менщиков 34 и приводило к его институализации. Нечто похожее произошло с еще одним регионом - Ханты-Мансийским автономным округом. Он имеет второе, практически официальное, наименование - Югра. Однако с исторической точки зрения не меньше прав на это имеют и Ямало-Ненецкий автономный округ, и территории Предуралья [11]. В массовом сознании сегодня «Зауралье» практически совпадает с Курганской областью, территориальное содержание историко-географического района (региона) в данном случае тождественно административно-территориальной единице, границы которой всегда довольно условны и имеют особенность постоянно перекраиваться. В научных текстах, конечно, такого отождествления не происходило. В большинстве случаев территория региона описывалась как частично или в основном совпадающая с границами современной Курганской области. Но именно в этом постоянном упоминании границ современной области в исследованиях, посвященных истории XVII - начала XX в., когда этой административной единицы и в помине не было, ярко проявляется обратное воздействие массового сознания на научное. Современные территориальные рамки «опрокидываются» в прошлое, когда их не существовало, что создает сложно преодолимый соблазн подбора «нужного» фактического материала. Это своеобразный ретроспективный пре-зентизм. Ведь если сегодня существует область с конкретными границами, то должно и что-то быть в прошлом, что являлось некоторым прообразом или истоками ее современного состояния. Вроде бы логично, но именно здесь кроется возможная интеллектуальная ловушка исторического обоснования региональной идентичности, о которой пишет американский историк А. Мегилл: «...формирующая идентичность история имеет дело только с тем, что она понимает как “нашу” идентичность» [12. С. 447], а затем предупреждает о том, что в итоге создается ложное впечатление: «.поскольку история пошла именно по этому пути, мы склонны думать, что другого пути не было» [Там же. С. 449]. Все вышесказанное, конечно же, не отменяет возможность использовать современные понятия (в том числе территориальные) при описании прошлого, когда этих понятий не существовало. Но их использование должно подчиняться строгим правилам. В частности, они (понятия) должны носить операциональный характер, и мы всегда должны помнить об опасности реификации, т.е. придания онтологического (бытийного) статуса этим идеальным конструктам. Определить конкретное пространственное содержание и территориальные рамки ойконима «Зауралье» довольно сложно, что связано с его изначальной семантической неопределенностью. В буквальном смысле этого слова - это все, что находится за Уралом. Кстати, отметим в этом примере словообразования элемент русского исторического самосознания, а именно представление об основной пространственной направленности роста территории Российского государства с запада на восток. Но в известном смысле конвенционально сложилось представление о Зауралье как о территории, непосредственно прилегающей с востока к Уральским горам. Если западная граница этой территории и, в меньшей степени, южная достаточно легко локализуются, то северная и восточная остаются неопределенными. В исторических исследованиях, сделанных в рамках традиционных для отечественной историографии подходов, эту проблему не удалось разрешить. Использование для задач историко-географического районирования административнотерриториальных границ (Зауралье как сельскохозяйственные уезды, расположенные на востоке Пермской губернии) не может быть признано удовлетворительным ввиду произвольности последних и постоянной их перекройки. Поэтому в качестве критериев выделения изучаемой территории должны выступать более устойчивые признаки, имеющие под собой и более объективные основания. Наибольшей объективностью и устойчивостью в этом случае может обладать природно-географический критерий в сочетании с основными социальноэкономическими характеристиками данной территории как результатами адаптации людей к конкретной природной среде. Как отмечают исследователи, «традиционно территория в географии рассматривается с точки зрения пространственной упорядоченности и позиционного принципа. Исходя из вышеизложенного, под Зауральем мы понимаем исторически сложившийся первым земледельческий район Сибири, названный В.И. Шунковым Верхотурско-Тобольским. Однако, на наш взгляд, этот историк неоправданно расширил его границы, включив в его состав комплексы поселений в низовьях Тавды, Вагая и Иртыша, пространственно отделенных от основной массы компактного размещения земледельческих слобод, расположенных в среднем и нижнем течении левых притоков речной системы Тобола - Исети, Пышмы, Ницы и Туры. Именно эти слободы играли важную роль в хлебном и другом ресурсном обеспечении территорий Урало-Сибирского региона в течение XVII-XVIII вв. Отметим также, что применительно к XVIII-XIX вв. термин «ВерхотурскоТобольский» практически не применяется исследователями, что свидетельствует о существенной ограниченности этого ойконима. Поэтому термин «Зауралье» более предпочтителен для наименования указанной территории, в том числе и с целью избежать совмещения его с термином В.И. Шункова. Таким образом, под Зауральем мы понимаем территорию, ограниченную с севера рекой Турой, с юга - рекой Уй, с востока -Средним Притобольем, с запада - средним течением рек Пышма, Ница, Нейва, Исеть. Отметим также, что на протяжении XVII-XVIII вв. территориальная структура изучаемого нами сегмента географического пространства претерпела существенные изменения. Это связано с выделением Урала как отдельной системы, отличной от Сибири. В XVIII в. подобное разделение уже возможно осуществить. Конец XVIII в. - время окончательного приобретения Зауральем функциональной определенности как ресурсного региона, играющего важную транзитную роль в системе межрегиональных коммуникаций. Одновременно происходит стабилизация военно-полити- Проблема определения исторического региона в Западной Сибири 35 ческой ситуации и административно-территориальной структуры, что также сказалось на стабилизации демографической ситуации и оформлении поселенческой структуры. Можно утверждать, что именно к концу XVIII в. происходит завершение собственно колонизации территории, в дальнейшем при сохранении притока мигрантов определяющими факторами развития территории становятся внутренние. Для периода XVIII-XIX вв. характерно, как свидетельство нового качественного уровня развития территории, ее внутренняя дифференциация. При становлении новой административно-территориальной системы можно четко выделить так называемое Южное Зауралье - Шадринский уезд Пермской губернии, Кур ганский округ (уезд с 1899 г.) Тобольской губернии и Исетско-Уйское междуречье, входившее по большей части в состав Оренбургской губернии. Собственно, это и есть территория Зауралья в современном понимании, почти точно совпадающая с границами современной Курганской области. Научить отделять одно от другого и помочь в определении границ региона в локальном исследовании - вот, пожалуй, основные задачи не только исследователя, но и преподавателя истории. Подводя итоги сказанному, хочется отметить, что в рамках данной статьи содержится, скорее, приглашение к дальнейшему размышлению и поиску ответа на вопросы: что и как следует изучать в рамках локальной истории.
Скачать электронную версию публикации
Загружен, раз: 83
Ключевые слова
Зауралье, Западная Сибирь, исторический регион, историко-географическое районированиеАвторы
| ФИО | Организация | Дополнительно | |
| Менщиков Владимир Владимирович | Курганский государственный университет | доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой отечественной истории и документоведения | vmen1@yandex.ru |
| Менщиков Игорь Самуилович | Курганский государственный университет | кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой всемирной истории и историографии | ygor@bk.ru |
Ссылки
Мегилл А. Историческая эпистемология. М. : Канон+, 2007. 480 с.
Менщиков В.В., Перцев Н.В. О локализации летописной Югры // Сибирский сборник : сб. ст. / отв. ред. Д.Н. Маслюженко, З.А. Тычин-ских. Курган : Изд-во Курган. гос. ун-та, 2015. Вып. 3. С. 61-70.
Менщиков В.В., Кислицын В.А., Совков Д.М. Курганская область: Зауралье, Урал или Сибирь? // Зыряновские чтения : материалы Всерос. науч.-практ. конф. Курган : Изд-во Курган. гос. ун-та, 2006. С. 11-13.
Менщиков В.В. Русская колонизация Зауралья в XVII-XVIII вв.: общее и особенное в региональном развитии. Курган : Изд-во Курган. гос. ун-та, 2004. 200 с.
Менщиков В.В. Историко-географические исследования Зауралья в 1990-х годах // Известия Русского Географического общества. 1999. Т. 131, вып. 6. С. 62-64.
Замятин Д.Н. Историко-географические аспекты региональной политики и государственного управления в России // Регионология. 1999. № 1. С. 163-173.
Завьялова О.Г. Природопользование и развитие: этногеосистемный анализ. Тюмень : Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2004. 212 с.
Мозель X. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба. СПб., 1864. Ч. 2: Пермская губерния. VI, 746, 54 с.
Ле Руа Ладюри Э. История регионов Франции. М. : РОССПЭН, 2006. 432 с.
Бродель Ф. Что такое Франция? М. : Изд-во им. Сабашниковых, 1994. Т. 1. 406 с.
Рассказов С.В. Историко-географические особенности заселения и хозяйственного освоения юго-запада Западносибирской равнины // Изве стия РАН. Серия географическая. 2008. № 3. С. 63-73.
Вен П. Как пишут историю. Опыт эпистемологии. М. : Научный мир, 2003. 391 с.
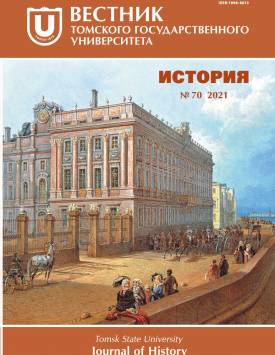
Проблема определения исторического региона в Западной Сибири | Вестн. Том. гос. ун-та. История. 2021. № 70. DOI: 10.17223/19988613/70/5
Скачать полнотекстовую версию
Загружен, раз: 1042

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью