Сибирский город в начале «Великого перелома» (на материалах Тюмени)
На материалах Тюмени анализируется опыт становления индустриального облика сибирского города в годы первой пятилетки (1928-1932). Установлено, что в условиях острого дефицита ресурсов крупное хозяйственное строительство и модернизация производства осуществлялись за счет «перекачки» средств из аграрной сферы и повышения интенсивности труда рабочих и служащих. Выбранная стратегия позволила сделать важный шаг на пути реализации проекта «большой индустриальной Тюмени».
Siberian city at the beginning of “Great break” (on the materials of Tyumen).pdf Первый пятилетний план, реализация которого началась 1 октября 1928 г.1, стимулировал проведение государством целого ряда мер экономического, политического и социального характера, придав индустриализации статус идеологической концепции «великого перелома». В кратчайший исторический срок стране предстояло развернуть строительство важнейших отраслей промышленности, увеличить производство всех видов продукции, приступить к выпуску новой техники. За счет этого предполагалось «упрочить устои социализма», повысить жизненный уровень населения, решать внешнеполитические и оборонные задачи. История советской индустриализации давно вызывает повышенный интерес исследователей, в том числе сибирских. Важный вклад в изучение проблемы внесли В.И. Касьяненко, А.С. Московский, В.С Лель-чук, В.И., Исаев, С.В. Журавлев, М.Ю. Мухин, Ш. Фицпатрик и др. [1-6]. Однако обычно их внимание фокусируется на крупных промышленных проектах, в первую очередь определявших будущее страны или ее отдельных регионов. В меньшей мере изучены модернизационные процессы на территориях, которые, составляя значительную часть государства, не решали столь масштабных задач и представляли своего рода его «индустриальную провинцию». Один из типичных примеров такого рода - это Тюмень, окружной, а с 1930 г. - районный центр Сибирского Зауралья, экономическое и социальное развитие которого в годы первой пятилетки до сих пор не являлось предметом комплексного исследования. География пятилетнего плана охватывала все регионы огромного государства - центральные и окраинные, промышленные и аграрные. В Тюмени с преобладавшим мелкопромышленным производством попытки использования плановых начал в экономике имели место еще в 1920-е гг. Однако все принятые тогда программы были рассчитаны на небольшой срок, не выходили за рамки нескольких предприятий, не включали социальную сферу. Пятилетка 1928-1932 гг. стала первым в истории города опытом не только масштабного, но и комплексного планирования. Не имея аналогов в прошлом, она вызвала у многих современников надежды на серьезное улучшение материального положения, жилищных и бытовых условий, почти не изменившихся после десяти лет советской власти. Однако не меньшим был и ком проблем, с которыми в новых условиях столкнулись и город, и его жители. Главная из них заключалась в гигантском разрыве между «стартовыми» рубежами тюменской пятилетки и ее задачами, между реальным положением горожанина и воображаемым идеалом. Накануне пятилетки подавляющее большинство промышленных предприятий Тюмени (по нашим расчетам, около 150 из 160) сближалось по типу производства с мануфактурами и даже ремесленными мастерскими. На них почти не использовалась машинная техника, сохранялись сложившиеся в прошлом технологии и приемы работы. Даже на одном из первых в Сибири чугунолитейном заводе «Механик» и в железнодорожном депо, где уровень механизации труда считался относительно благополучным, весомым компонентом производственного процесса оставалась мускульная сила рабочего, а парк станков и машин настолько устарел, что требовал скорейшей замены. Серьезными препятствиями на пути индустриальной модернизации являлись узкая строительная и сырьевая база производства, низкий уровень квалификации большей части тюменских рабочих, острый дефицит инженеров и специалистов, допотопные условия труда на предприятиях. На первый взгляд, задания первого пятилетнего плана в значительной мере учитывали эти обстоятельства: в Тюмени намечались строительство новых и расширение уже действующих предприятий, их техническая модернизация, улучшение условий труда. На этой основе предполагалось увеличить промышленное производство на 176,9% (по стране - на 180%), причем к концу пятилетки 58% продукции должны были выпускать новые заводы и фабрики [7. 1931. 21 авг.]. Среди новостроек тех лет выделялись станкостроительный завод, который планировалось создать на базе завода «Механик» (стоимость строительства 11 млн руб.), заводы лесопильных рам (9 млн руб.), лесопильный (2,8 млн руб.), канатно-шпагатный (2 млн руб.), овчинно-шубный (1 млн руб.), мебельная фабрика (1 млн руб.) [Там же. 1930. 27 апр.] и др. Практическое осуществление столь грандиозных проектов остро поставило вопрос об источниках их финансирования, поскольку инвестиционные возмож- Сибирский город в начале «великого перелома» 51 ности города не «вписывались» в намеченные планы. О масштабах сложившейся диспропорции можно судить, например, по тому, что расходы на строительство только станкостроительного завода в 8-9 раз превышали годовой бюджет Тюмени накануне первой пятилетки2. Не имели собственных финансовых накоплений и промышленные предприятия, едва ставшие приносить прибыль после послевоенной разрухи. В этих условиях масштабное строительство и модернизацию производства можно было осуществлять только за счет перераспределения потоков капитала, главным образом путем «перекачки» средств из аграрного сектора экономики. Правда, в первое время проблема инвестиций не вызывала особых опасений у административных органов, поскольку основные реконструктивные и строительные работы в Тюмени планировались на последние три-четыре года пятилетки, когда, как ожидалось, массовая коллективизация «заткнет финансовые дыры», а первенцы индустриализации сами начнут приносить прибыль. Результаты 1928/1929 года, казалось, подтвердили правильность выбранной стратегии: плановые задания первого года пятилетки были не только выполнены, но и перевыполнены на 13,2% [7. 1929. 30 нояб.]. В это время завершилось строительство первой очереди новой городской электростанции, началась реконструкция судостроительной верфи, завода «Механик», железнодорожного депо, открылась небольшая коптильнобалычная фабрика, приступили к строительству новой фанерной фабрики. Положение усугубилось в начале 1930 г., когда и без того напряженные задания пятилетки были пересмотрены и существенно повышены. В рамках плана строительства «большой индустриальной Тюмени» дополнительно намечалось построить электросварочный завод, заводы радиоаппаратуры, мостовых конструкций, «огородного оборудования», маслодельного оборудования, кранов и подъемных машин, трансформаторов, фабрики льняного полотна, сапоговаляльную, брезентовую, богемского стекла [Там же. 1931. 17 июля] и др. Планировалось начать строительство железной дороги Тюмень-Тобольск-Алапаевск и небывалого металлургического комбината, на котором намечалось каждый год выплавлять 6 млн т чугуна, т.е. столько, сколько его в то время производили все металлургические заводы страны [Там же. 1930. 9 марта]. Предполагалось, что «гигант социалистической индустрии» будет работать на железной руде Урала, местных запасах торфа и каменном угле Кузнецкого бассейна. Несомненно, реализация этого дорогостоящего проекта, с одной стороны, могла превратить Тюмень в один из главных, если не главный центр российской металлургии, но с другой - нанесла бы такой ущерб экологии города (и прилегающих районов), что говорить о его перспективах можно было только в мрачных тонах. Повышенные задания создали принципиально иную хозяйственную ситуацию. До предела обострилась проблема источников индустриализации, отсутствовала проектно-сметная документация новых объектов, резко возросла потребность в рабочей силе, особенно квалифицированной, в строительных материалах. На 1 апреля 1930 г. новостройки Тюмени были обеспечены кирпичом и пиломатериалами на 30%, цементом - на 10%, водопроводными и канализационными трубами, сортовым железом и гвоздями - на 5% [Там же. 1930. 11 апр.] и т.д. Как следствие, задания второго года пятилетки по строительству гражданских и промышленных объектов были выполнены только на 50%, в том числе жилья - на 27%, учреждений социальной сферы и культуры - на 33%, промышленных предприятий - на 73% [9. С. 27]. Картина повторилась в 1931, а затем и в 1932 г. Причем с каждым месяцем положение ухудшалось, поскольку в условиях тотального дефицита строительных материалов их общероссийские фонды все в большей мере перераспределялись на нужды важнейших промышленных регионов страны в ущерб аграрным. Так, накануне летнего строительного сезона 1932 г. потребности «второстепенной» Тюмени в материалах были удовлетворены лишь на 4,2%. Особенно мало было выделено гравия (0,2%), кирпича (1,4%), цемента (1,6%), оконного стекла (2,8%) [11. Л. 140]. Попытки выйти из кризиса за счет собственных ресурсов, хотя и приглушили остроту проблемы, но из-за недостаточной мощности предприятий, узкой сырьевой базы и множества других объективных причин не могли решить ее полностью. Даже кирпич, производство которого было налажено в городе уже два столетия, выпускался в таких объемах, что его едва хватало на удовлетворение половины потребностей тюменских новостроек. В этих условиях строительство одних объектов затягивалось, других - «замораживалось». «Канули в лету» планы строительства металлургического комбината, железной дороги на Алапаевск, заводов по производству трансформаторов, радиоаппаратуры, кранов и подъемных машин и многих других предприятий. Все эти обстоятельства не могли не сказаться на хозяйственных результатах пятилетки. С одной стороны, официальная статистика утверждала, что за 4 года и 3 месяца (с 1 октября 1928 г. до 1 января 1933 г.) производство промышленной продукции в Тюмени увеличилось на 185,2% и первоначальные плановые задания (176,9%) были досрочно выполнены. С другой стороны, из четырех полных лет пятилетки лишь первый ее год оказался относительно благополучным. Провалом закончились попытки «взвинтить» темпы экономического роста при помощи повышенных, а на деле волюнтаристических, лишенных реализма установок, которые не только до предела обострили все противоречия экономической жизни, но и затормозили выполнение первоначальных заданий пятилетнего плана, и без того сверхнапряженных. Так, план 1932 г. промышленные предприятия Тюмени выполнили лишь на 70,2%, причем на ведущих из них картина оказалась еще более удручающей: завод «Механик» реализовал годовое задание на 39,9%, лесозавод «Красный Октябрь» - на 54,2%, деревообрабатывающая фабрика «Пламя» - на 65,5% [12. Л. 2]. Чтобы объективно определить результаты первой тюменской пятилетки, необходимо учитывать, что статистика тех лет обычно оперировала не фактиче- В.М. Кружинов, З.Н. Сокова 52 скими (численность изготовленных станков, валенок, фанеры и т.п.), а стоимостными показателями выпущенной продукции. Последние, в свою очередь, складывались из стоимости использованных материалов, износа оборудования, начисленной рабочим и служащим заработной платы, других производственных расходов, которые в условиях растущей инфляции и нерационального использования ресурсов постоянно увеличивались и вели к повышению себестоимости произведенной продукции. Так, в 1928/1929 г. (напомним: относительно благополучном) себестоимость продукции на предприятиях Тюмени выросла (по разным сведениям) на 2,14-25%, в 1931 г. на судоверфи - на 20,1%, на фабрике «Пламя - на 36,6% [7. 1932. 18 янв.] и т.д. Это вело к удорожанию выпускаемых изделий и при использовании стоимостных показателей в статистических расчетах создавало иллюзию «бешеного» роста. С учетом сказанного можно утверждать, что реальный рост промышленного производства в Тюмени с 1928 по 1932 г. не соответствовал официальным сведениям и составил не 185,2%, а, скорее всего, 70100%, хотя, разумеется, и этот результат следует считать высоким. Из новостроек первой пятилетки наиболее крупной являлась фанерная фабрика (пущена 15 июля 1930 г.). Она стала вторым в городе предприятием такого профиля (после фабрики «Пламя»), была оборудована немецкими машинами и позволила в 3-4 раза увеличить производство тюменской фанеры. Важные перемены произошли на заводе «Механик», который в 1930 г. переименовывается в станкостроительный. Причем если накануне пятилетки продукция завода на 67,2% состояла из печного и посудного литья (толстостенного, тяжелого и потому неконкурентоспособного), то к 1932 г. его доля понизилась до 1,4%, тогда как выпуск станков и машин составил 33,7% (в 1927/1928 г. не производились), а «механических изделий» - 64,9% (в 1927/1928 г. - 32,8%) [Там же. 1933. 2 янв.]. Среди новых видов заводской продукции были шпалорезные, корообдирочные и обрезные станки, шерстотрепальные и другие машины, ранее закупавшиеся за границей. В результате государство прекратило их импорт и сэкономило 3,7 млн руб., за счет которых можно было построить 2-3 таких завода, как «Механик» [Там же. 1932. 18 янв.]. В начале 1930-х гг. получили современное оборудование судостроительная верфь, фабрика «Пламя», стоимость основных производственных фондов которых выросла соответственно в 6,2 и 4,7 раза (по всем промышленным предприятиям города этот показатель увеличился в 2,5 раза - с 5 031 тыс. руб. в 1928 г. до 12 965 тыс. руб. в 1932 г.) [12. Л. 53]. В условиях отсутствия необходимых инвестиций для реализации промышленных и инфраструктурных проектов большие надежды возлагались на повышение интенсивности труда рабочих и служащих. С этой целью в августе 1929 г. начался перевод предприятий на «непрерывку», т.е. такую организацию труда, при которой устанавливалась пятидневная рабочая неделя, а производственный процесс осуществлялся без общего для всех рабочих и служащих дня отдыха, в том числе и по воскресеньям. Свое политическое выражение «непрерывка» получила в лозунге «Строим социализм 365 дней в году!». Другой формой интенсификации труда стало движение ударников, инициаторами которого выступали как «верхи», так и сами рабочие, преданные советской власти или заинтересованные в дополнительном заработке. В Тюмени ударничество появилось 6 мая 1929 г. на пимокатном заводе «Угольник», когда 12 рабочих стирального цеха создали две ударные бригады, взяв обязательство «вступить в соревнование между собой, совершенно изжить прогулы, улучшить качество фабриката [т.е. заготовок для валенок], выполнить или перевыполнить норму выработки». Правда, реальные результаты первого месяца «ударного труда» разошлись с ожиданиями рабочих-новаторов: примитивные механизмы и традиционная технология не позволяли быстро и резко повысить эффективность производственного процесса. В результате одна ударная бригада увеличила выпуск продукции лишь на 1,6%, другая, наоборот, снизила производство на 2,8%. Лучше выглядели качественные показатели работы: первая бригада сократила выпуск бракованной продукции на 24%, вторая - на 10%; в первой бригаде доля брака в общем объеме производства составила 4,9%, во второй - 4,7%, тогда как среднезаводской показатель составлял 10,2% [7. 1929. 2 июля]. К концу первого года пятилетки на каждом предприятии города были свои ударники: в железнодорожном депо - около 600 человек, на заводе «Механик» -280, на фабрике «Пламя» - 131, на судоверфи - 19 и т.д. [Там же. 1930. 7 нояб.]. Как и рабочие «Угольника», они обещали выполнять и перевыполнять производственные задания, не опаздывать на работу, не допускать прогулов. Некоторые ударники обязывались бережно относиться к материалам и инструментам, повышать квалификацию, изжить пьянство. В то же время минимальная экономическая эффективность нового движения и соответствующее ей незначительное материальное вознаграждение работников неизбежно отражались на настроениях недавних и будущих «героев труда». Они легко поддавались соблазну оказаться на «прибыльном рабочем месте» и влиться в ряды самых решительных борцов за социализм, но столь же легко и расставались с созданными образами, если те не приносили реальной выгоды либо предполагали крайнее напряжение всех физических и духовных сил. Одним из примеров такого рода может служить «эпизод» с рабочим судоверфи Г-м. Объявив себя ударником, он первым в Тюмени взял обязательство ежемесячно отчислять в созданный тогда «Фонд индустриализации» 1% заработной платы, вызвав на соревнование «весь партактив верфи» [Там же. 1930. 4 янв.]. Призыв Г-а, поддержанный городской газетой, получил распространение и на других предприятиях: работница типографии Носова решила отчислять 2% зарплаты, кровельщики судоверфи Дударев, Иванов и Миронов - по 3%, а соревновавшийся с ними кровельщик Тыщенко - 5% [Там же. 1930. 12 янв.]. Что же касается самого Г-а, то через два месяца после своего начинания он был задержан в проходной верфи Сибирский город в начале «великого перелома» 53 при попытке вынести с предприятия инструменты и объявлен «вредителем» [7. 1929. 30 нояб.]. Нарастание кризисных тенденций в экономике подталкивало партийные, советские и хозяйственные структуры искать выход в новых способах повышения интенсивности труда рабочих и служащих. Небывалые масштабы приобретает «ударническая горячка». На 1 июня 1930 г. в ударниках числились 70% рабочих Тюмени, многие из которых даже не выполняли плановые задания. Правда, после проведенной вскоре «чистки» этот показатель понизился до 53,7%, но в 1932 г. вновь подскочил до 67,4% [Там же. 1932. 18 янв.]. Характерными чертами движения стали извращение его первоначального содержания, формализм. Так, машинистки Тюменского окрисполкома Д-н, П-а и Г-а, объявив себя ударницами, обязывались «своевременно являться на службу» и «в рабочее время не ходить по коридорам». Фабрика «Пламя» и Борковский колхоз Тюменского района в своих совместных «ударных обязательствах» записали, что в случае их невыполнения колхоз «заплатит фабрике 500 пудов овса и 200 пудов сена», а фабрика «в виде неустойки передаст колхозникам автомобиль». Еще одну «новацию» внес в удар-ническое движение рабочий фабрики «Пламя» Б-в, чей «ударный договор» был озаглавлен «Минимум обязательств ударника» и содержал только одно «обязательство»: «Беру на себя минимум обязательств, дающих право носить звание ударника» [Там же. 1931. 1 июня]. Неудивительно, что в такой обстановке многие ударные бригады распадались, процветало «лжеударничество». В среде коммунистов был популярен анекдот: - Как дела с ударничеством? - Хорошо! Секретарь восемнадцатое воззвание подписывает. Тот же мотив присутствовал и в рабочей частушке: Я ли не ударник, Я ли не борюсь? Ночью прогуляю, У станка просплюсь. Одной из попыток возродить первородную сущность ударничества, придать ему новый импульс стало использование почти забытых в годы нэпа сверхурочных работ. Так, в марте 1931 г. рабочие-коммунисты фабрики «Пламя» Патрушев и Бакуев, чтобы вывести цех из «прорыва», в течение нескольких дней работали без перерыва по 2 смены каждый. В мае 1931 г. их примеру последовали женщины-работницы Куроедова и Шустова, а строгаль Левданский проработал 3 смены подряд [Там же. 1931. 4 июня]. Однако безусловными «рекордсменами» сверхурочных работ в Тюмени стали рабочие железнодорожного депо Галушко и Бактин, которые в июне 1931 г. отремонтировали паровоз, отработав без перерыва 4 смены, т.е. 28 часов (тогда на большинстве предприятий рабочий день длился 7 часов) [Там же. 1931. 9 июня]. В то же время немалая часть рабочих и служащих безразлично, а порой и враждебно относилась к самопожертвованию ударников. Среди типичных проявлений подобных настроений - эпизод на собрании рабочих судоверфи 25 марта 1931 г., когда 6 человек выступили против предложения организовать сверхурочные работы, чтобы выпустить в срок три нефтеналивные баржи. Они обвиняли администрацию, что та «применяет насилие, заставляя работать», «уплотняет рабочий день» и «держит рабочих голодом». Схожие рассуждения имели место на фабрике «Пламя»: «За копейки, которые нам платят, мы лучше вообще работать не будем» [Там же. 1931. 1 апр.]. Особое возмущение рабочей массы вызывало снижение расценок за выполняемые работы, инициаторами которого выступали некоторые ударники и администрация предприятий. Когда, например, дирекция «Угольника» понизила тарифы за «вычищение валенок», рабочие завода умышленно сократили выпуск продукции на 22-25% , следующим образом объясняя свое поведение: «Месяца два-три подзадержим, снизим [выработку], ну и расценки оставят прежние или даже повысят. А потом поднажмем и увеличим заработок» [Там же. 1929. 18 окт.]. Причем участвовали в таких акциях не только беспартийные рабочие, но и «рядовые» члены ВКП(б) и профсоюзные активисты. Так, на фабрике «Пламя» коммунисты П-н и У-в говорили беспартийному ударнику Сичкарю: «Что ты как бешеный работаешь?», - а член завкома судостроительной верфи В-в уговаривал рабочих «больше не вырабатывать» [Там же. 1930. 8 апр.]. В отдельных случаях рабочее недовольство выливалось в забастовки, носившие, как правило, экономический характер. Так, в октябре 1929 г. печники городской электростанции Беляев и Мусихин прекратили кладку печей и, поддержанные другими рабочими, потребовали повысить оплату труда в два раза [Там же. 1929. 18 окт.]. Однако добиться выполнения своих требований бастующие не сумели. Их выступление было стихийным, плохо организованным и не могло противостоять управленческой машине, опиравшейся на всю мощь государства. По этим же причинам в 1928/1929 г. из 179 трудовых конфликтов на предприятиях Тюмени лишь 50 (27,9%) закончились в пользу рабочих [13. Л. 15 об.]. В рамках первого пятилетнего плана ставилась задача превратить Тюмень в благоустроенный и удобный для проживания город с современной инфраструктурой и развитым коммунальным хозяйством: осуществить озеленение городской территории, расширить сеть улиц с твердым покрытием, увеличить объемы жилищного строительства, радиофикации и телефонизации, построить новые баню, телеграф, магазины и т.д. В русле этой градостроительной программы в 1930 г. городской Совет принял «Схему перепланировки Тюмени» - первый в истории города генеральный план его развития. «Схема» предусматривала прекращение жилищной застройки в находившемся под угрозой весенних половодий Заречье (левый берег р. Туры) и постепенный перевод большинства расположенных там предприятий в «восточную часть города, по нижнему течению реки Туры», где намечалось создать новую промышленную зону [14. Л. 93-95]. В годы пятилетки произошли существенные изменения в составе городского населения. В условиях хозяйственного «бума» в 2,4 раза (с 6 132 до 14 709 человек) В.М. Кружинов, З.Н. Сокова 54 увеличилась численность рабочих, занятых в промышленности, строительстве и на транспорте. Как никогда раньше в производственную деятельность включаются женщины. Если в 1926 г. они составляли 16,9% наемных рабочих, то в 1932 г. - 25,2% [15. Л. 1 об.]. Одновременно резко сокращается численность «нэпманов» и «нетрудовых элементов»: в 1926 г. - 853 человека, в 1930 г. - 91, в 1931 г. - 38, в 1932 г. - 45 человек [Там же. Л. 2]. Вызывая у власти ассоциации с «чуждым буржуазным миром» и «враждебной» идеологией, они облагались повышенными налогами, подвергались политической дискриминации. Нередко государство под тем или иным предлогом само закрывало частные предприятия, объединявшиеся затем в артели [7. 1927. 20 мая]. Зафиксированы, однако, и случаи, когда частник добровольно прекращал свою деятельность. Так, 14 января 1930 г. в тюменской газете «Красное знамя» появилось обращение известного в городе врача А.И. Когана, который объявлял о прекращении приема больных на дому и «вызывал своих коллег последовать этому примеру в порядке соцсоревнования»3. 1 февраля 1930 г. решили прекратить частную практику тюменские адвокаты, создавшие «трудовой коллектив защитников» [Там же. 1930. 4 февр.]. Крупными достижениями первой пятилетки стали ликвидация безработицы (в июне 1928 г. в городе было зарегистрировано 4 123 безработных [Там же. 1928. 17 июн.]), введение в 1930 г. всеобщего семилетнего образования, которым к 1933 г. охватили 96% детей [16. Л. 15]. Искренними представляются слова плотника Тюменской стройконторы Кунгурова, рассказывавшего корреспонденту городской газеты: «Мне 63 года, 15 лет проработал в батраках. А о батрацкой жизни говорить не приходится, что заставят, то и делай, куда пошлют, туда и иди, чем накормят, тем и ладно. Когда был молодой, сильно хотелось учиться, но учиться не пришлось, так неграмотным на всю жизнь и остался. А сейчас было бы только желание, всем дано право учиться. Это очень хорошо. У меня вот три сына, и все грамотные, а между ними и мне лучше. Один газету прочитает, второй что-нибудь интересное расскажет» [7. 1936. 21 июня]. 2 июня 1929 г. стал курсировать первый городской автобус, оборудованный из старого грузовика тюменскими пожарными4. В 1930 г. в Тюмени открылось два высших учебных заведения - Уральский автодорожный институт (учебные занятия начались 15 октября 1930 г.) и Тюменский агропедагогический институт (учебные занятия начались 2 ноября 1930 г.), в то время единственные в городе [17. С. 179]. В 1931 г. обсуждался вопрос об открытии в Тюмени еще одного вуза - горного института, однако после отказа от строительства металлургического комбината и ряда других заводов эта идея была отклонена, хотя в городской газете уже появились объявления о наборе будущих студентов. В годы пятилетки выросла заработная плата основной массы рабочих и служащих. Так, у машиниста-железнодорожника станции Тюмень она увеличилась с 138 руб. в месяц до 200-250 руб., у рабочих завода «Механик» - с 80-96 руб. до 120-140 руб. [7. 1933. 14 мая] и т.д. К началу второй пятилетки средняя ежемесячная заработная плата тюменского рабочего составляла 132,8 руб. [Там же. 1937. 22 янв.]. Немногим больше были оклады советских чиновников. Так, председатель Тюменского городского совета получал 200 руб. в месяц, его заместитель или заведующий отделом - 185 руб., инструктор - 100-135 руб. Правда, высшим руководителям города предоставлялись определенные льготы (повышенная норма жилой площади, прикрепление к спецмагазину, санаторная путевка), однако последние, скорее, носили статусный характер и мало сказывались на финансовых доходах того или иного лица. Значительно ниже оплачивался труд неквалифицированных рабочих и «рядовых» советских «клерков»: например, оклад уборщицы составлял всего 40-50 руб., а делопроизводителя и секретаря-машинистки городского совета - 55 руб. в месяц [10. Л. 12 об.]. В то же время рост заработной платы тюменцев в годы первой пятилетки существенно отставал от темпов инфляции и сопутствовавших ей беспрерывных «скачков» цен на промышленные и продовольственные товары. Если летом 1927 г. на городском базаре фунт сливочного масла стоил 1 руб. 50 коп., то в мае 1932 г. - 10 руб. За это время стоимость четверти (старая мера, равная 1/4 ведра) молока выросла с 35 коп. до 4-5 руб. 50 коп., пуда муки - с 2 руб. 48 коп.-3 руб. 80 коп. до 90-150 руб., а метра ткани - с 0,3-1,2 руб. до 20-28 руб. [7. 1933. 10 окт.]. Чрезвычайно дорого стоили на рынке мясо (16 руб. за килограмм), сахар (20-25 руб. за килограмм), буханка хлеба (10-12 руб.) и другие продукты. Дирекция городского базара «сигнализировала» вышестоящим структурам: «Из-за высоких цен покупка ведется более обеспеченными и высокопоставленными группами населения»; «Мясо покупают главным образом обеспеченные слои, получающие приличные ставки» [18. Л. 18] и т. п. Значительно ниже были цены в городских магазинах. Здесь в 1932 г. килограмм хлеба стоил 13-18 коп., мяса - 1,2 руб., сахара - 1,28 руб. [19. Л. 34, 83]. Однако в условиях тотального дефицита эти и многие другие продукты обычно отсутствовали в открытой продаже или поступали в ограниченном количестве. Так, в 1930 г. ежедневные поставки молока в магазины города составили в расчете на одного жителя 16-29 г, рыбы - 13 г [20. Л. 50]. Проверка тюменских магазинов, проведенная 25 декабря 1932 г., показала, что ни в одном из них не было в продаже картофеля, капусты, фруктов, колбасы, мяса свиного и бараньего, топленого масла, маргарина, яиц, печенья, шоколадных конфет, мужских носков, сорочек, костюмов и пальто, женских пальто и чулок, мужской и женской обуви и даже... столовых ложек [19. Л. 83]. В такой обстановке обычным явлением стали очереди. Современник писал: «У мучной лавки на Базарной площади [располагалась в центре Тюмени] сотни женщин с ночи записываются в очередь на муку. Выдача производится медленно. Мало продавцов. Порядок не соблюдается. Получается давка. Люди стоят целыми днями и нередко уходят, не получив муки» [7. 1929. 20 сент.]. Чтобы избавиться от очередей, в 1928 г. для «трудового населения» вводятся «заборные книжки», Сибирский город в начале «великого перелома» 55 предъявив которые в магазине по месту жительства можно было приобрести установленную норму продуктов. О том, что из этого получилось, видно из жалобы женщины-работницы: «На днях я зашла в магазин № 1 и хотела купить сахару. Меня спросили, где я живу и, узнав, что в Заречье, велели обратиться туда. Между тем покупателей в этом магазине почти не было. Я пошла в одну лавку за рекой - там давка, полно народа за мукой. Пошла в другую - там очередь еще больше. Пришлось тоже стоять. В результате я осталась и без муки, и без сахара» [7. 1929. 17 окт.]. В 1930 г. продовольственное снабжение горожан ухудшилось, и часть продуктов и промтоваров стала продаваться в «распределителях», созданных на крупных заводах и фабриках. Ассортимент торговли свелся к списку жизненно важных продуктов: хлеб, мясо, рыба, крупа, растительное масло, сахар [21. С. 74]. Из-за «товарного голода», отсутствия на предприятиях приспособленных для торговли помещений и прочих «неувязок» такая форма снабжения рабочих и служащих обычно создавала лишь новые очереди. В 1931 г. в Тюмени открылась «Фабрика-кухня», где готовили обеды для предприятий, больниц и учебных заведений. Как правило, они состояли из подбеленной скисшим молоком крупяной похлебки, застаревшей вермишели, чая и ломтя непропеченного хлеба. Для «ударных» и «особо важных» предприятий варился мясной или рыбный суп, а вместо чая - компот. О вкусовых качествах таких «обедов» можно судить по результатам проверки, проведенной 14 августа 1931 г. в городской больнице, где в розданном больным супе были обнаружены черви [7. 1931. 2 сент.]. Не лучшим было положение и в следующем году. В октябре 1932 г. Тюменский оперсектор ОГПУ докладывал в горком ВКП(б): «Обеды, привозимые на предприятия Тюмени, бывают без хлеба, однообразны и непитательны. Суп варится из рыбы с примесью травы и мутной воды, а рыба же отсутствует. Имелись случаи, когда в рыбе попадались черви... На почве продовольственных затруднений имеется ряд фактов, когда рабочие отказываются от выхода на работу целыми сменами или уходят с производства ранее означенного времени. На судоверфи рабочие и работницы плачут. Они по несколько дней не ели, и дома у них сидят голодные дети. Со стороны рабочих отмечаются угрожающие выкрики по адресу советской власти и местных организаций» [22. С. 178]. В стремлении ослабить продовольственную нужду власти развернули кампанию за «самообеспечение» горожан. Их призывали обзаводиться огородами, разводить кур, кроликов, учиться готовить суп без мяса и т.д. В 1928 г. для тюменцев создается первый садовоогородный кооператив «Тюмень-сад», члены которого обязывались совместно обрабатывать выделенные земли. Правда, тогда из этой затеи ничего вразумительного не получилось: «Тюмень-сад» подозрительно напоминал сельскохозяйственную коммуну, в которой объединялись все средства производства (земля, орудия труда, сам труд) и которую даже колхозники рассматривали как худшую форму коллективного хозяйства. Городская газета вскоре констатировала, что коллективные огороды «заросли бурьянами» [7. 1930. 17 июля]. Еще одним новшеством стало открытие в августе 1932 г. магазина Уральской областной конторы по торговле с иностранцами (Торгсина), где торговля велась на драгоценные металлы и валюту, которые у подавляющего большинства тюменцев просто отсутствовали. Одной из главных неудач первой пятилетки стал срыв заданий по жилищному строительству и благоустройству города, до предела обостривший бытовую неустроенность тюменцев. Если в 1926-1932 гг. их численность выросла на 30,9% (с 50 340 до 65 870 тыс. человек), то жилой фонд - лишь на 12,1% (с 235,4 до 263,8 тыс. кв. м). В результате жилая площадь в расчете на одного жителя, и без того не соответствовавшая санитарным нормам (тогда 9 кв. м), сократилась на 14,4% и составила 4 кв. м [7. 1931. 4 июля; 15. Л. 1 об.; 23. Л. 349; 24. Л. 65]. В эти годы не было возведено ни одного сколь-нибудь крупного жилого дома, и основной прирост жилищного фонда приходился на индивидуальные постройки и дома-бараки, сооруженные предприятиями. В 1932 г. из 6 855 городских домов лишь 89 (1,3%) были кирпичными, 51 (0,7%) имел водопровод, а 2 462 (35,9%) дома не имели электрического освещения [15. Л. 5,6]. Правда, в 1930-1931 гг. началось строительство трех «домов-гигантов» - полностью благоустроенных жилых четырехэтажных зданий, однако из-за недостатка материалов эта работа велась медленно и завершилась только в следующую пятилетку. Жилищная проблема в Тюмени в первые десятилетия советской власти считалась одной из наиболее сложных и даже «тупиковых». Вряд ли можно согласиться с выводами историка М.Г. Мееровича, что острая жилищная нужда в «государстве диктатуры пролетариата» создавалась специально, «осмысленно и целенаправленно», что «дефицит жилища был выгоден власти», поскольку с его помощью она не только «миловала и наказывала», но и «обеспечивала контроль и догляд за настроением, повседневным поведением и строем мыслей населения» [25. С. 5-7]. Будет правильней объяснить жилищный кризис начала 1930-х гг. тем, что тюменские власти отдавали приоритет форсированной индустриализации, а потребности людей в приватном пространстве и частной жизни не считались значимыми и игнорировались. Из сравнительно крупных объектов гражданского строительства, возведенных в начале 1930-х гг., отметим городскую баню в центре города (открылась 1 сентября 1931 г.) и новое здание цирка (первое представление состоялось 15 мая 1932 г.), где находился самый большой в городе зрительный зал, рассчитанный на 2 тыс. человек. В то же время новостройки первой пятилетки мало изменили внешний облик Тюмени. Одноэтажные деревянные дома, унылые корпуса фабричных предприятий, грязные, почти неосвещенные дворы и улицы -вот типичная мозаика городского пейзажа тех лет. Особенно нерадостно выглядели рабочие окраины. Здесь остро не хватало магазинов, учреждений культуры, водопроводных колонок. Улочки и переулки, В.М. Кружинов, З.Н. Сокова 56 никогда не знавшие твердого покрытия (в 1932 г. только 7% городских улиц являлись мощеными [15. Л. 9 об.], после каждого дождя походили на непроходимые болота, которые зимой покрывались льдом и завалами сугробов: Справа - снежные траншеи, Слева - щели виден край. Что сломать - хребет иль шею, Сам тюменец выбирай. Не могла «похвастаться» чистотой и порядком и главная магистраль Тюмени ул. Республики, на которой находились все основные советские учреждения, магазины, учебные заведения, театр, клубы. За годы советской власти она почти не ремонтировалась, поэтому деревянные тротуары напоминали «качели», а дореволюционная каменная мостовая, по словам современника, являла нескончаемую полосу выбоин, которую «шофер старался за полкилометра объехать, иначе он рисковал остаться не только без рессор, но и без головы» [7. 1937. 12 янв.]. Подводя итог сказанному, можно констатировать, что первый пятилетний план стал программой масштабного и комплексного развития Тюмени. Его реализации сопутствовали выгодное географическое положение города - крупного железнодорожного и судоходного центра, связывающего Сибирь с Европейской Россией, складывавшийся на протяжении многих десятилетий сравнительно высокий промышленный потенциал, возможности увеличения численности рабочей силы за счет крестьянских миграций и спецпереселенцев. В то же время планам индустриального развития препятствовали недостаточное финансирование, узкая строительная и сырьевая база производства, низкий уровень квалификации большей части рабочих, дефицит инженеров и специалистов. В этих условиях хозяйственное строительство и модернизация производства осуществлялись прежде всего за счет деревни, интенсификации труда, снижения уровня жизни основных групп населения. Индустриальная трансформация и урбанизация конца 1920-х - начала 1930-х гг. сопровождались обострением всех основных проблем городской среды, которая сохраняла традиционный облик, лишь частично затронутый процессом модернизации. В сложившихся условиях городская среда и повседневность Тюмени представляли симбиоз традиционных и современных элементов. Сплетаясь в специфические структуры, они придавали процессу модернизации противоречивый и во многом фрагментарный характер. ПРИМЕЧАНИЯ 1 До 1931 г. хозяйственный год начинался 1 октября, с 1931 г. - 1 января. 2 Динамика расходной части бюджета Тюмени тогда была следующей: 1924/1925 г. - 529 868 руб.; 1925/1926 г. - 890 035 руб.; 1926/1927 г. -910 818 руб. [8. С. 4]; 1927/1928 г. - 1 106 829 руб. [7. 1928. 26 окт.]; 1928/1929 г. - 1 246 134 руб.; 1929/1930 г. - 1 497 708 руб. [9. С. 7]; 1933 г. - 3 985 501 руб. [10. Л. 18]. 3 Когда в 1933 г. наступил «сталинский неонэп» и давление на частника немного ослабло, индивидуальная врачебная практика в Тюмени возоб
Скачать электронную версию публикации
Загружен, раз: 57
Ключевые слова
Тюмень, городская повседневность, ударничество, индустриализация, первая пятилеткаАвторы
| ФИО | Организация | Дополнительно | |
| Кружинов Валерий Михайлович | Тюменский государственный университет | доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры отечественной истории Института социально-гуманитарных наук | vm.kruzhinov@mail.ru |
| Сокова Зинаида Николаевна | Тюменский государственный университет | доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры новой истории и мировой политики Института социально-гуманитарных наук | sokova.zn@gmail.com |
Ссылки
Меерович М.Г. Наказание жилищем: жилищная политика в СССР как средство управления людьми (1917-1937 годы). М. : РОССПЭН, 2008. 303 с.
Очерки истории Тюменской области / отв. ред. В.М. Кружинов. Тюмень : Тюмень,1994. 270 с.
ГАТО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 160.
ГАТО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 219.
ГАТО. Ф. 698. Оп. 1. Д. 12.
ГАТО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 124.
Осокина Е.А. За фасадом «сталинского изобилия»: распределение и рынок в снабжении населения в годы индустриализации. 1927-1941. М. : РОССПЭН, 1999. 271 с.
ГАТО. Ф. 698. Оп. 1. Д. 10.
ГАТО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 84.
ГАТО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 158.
ГАТО. Ф. 698. Оп. 1. Д. 4.
ГАТО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 346.
400 лет Тюмени : сб. документов и материалов / отв. ред. Д.И. Копылов. Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1985. 368 с.
ГАТО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 323.
ГАТО. Ф. 698. Оп. 1. Д. 3.
Государственный архив Тюменской области (ГАТО). Ф. 5. Оп. 1. Д. 345.
Отчет Тюменского городского Совета РК и КД за 1929-1930 год / под ред. С.А. Бутина. Тюмень : Тип. Уралполиграфа, 1930. 52 с.
Отчетный доклад о работе Тюменского городского Совета Уральской области за 1926-1927 хозяйственный год / под ред. С.А. Бутина. Тюмень : Тип. Уралполиграфа, 1927. 60 с.
Красное знамя. Тюмень.
Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы: город. 2-е изд. М. : РОССПЭН, 2008. 336 с.
Журавлев С.В., Мухин М.Ю. «Крепость социализма»: Повседневность и мотивация труда на советском предприятии, 1928-1938 гг. М. : РОССПЭН, 2004. 258 с.
Исаев В.И. Быт рабочих Сибири. 1926-1937 гг. Новосибирск : Наука, 1988. 241 с.
Лельчук В.С. Индустриализация СССР: история, опыт, проблемы. М. : Политиздат, 1984. 302 с.
Московский А.С. Промышленное освоение Сибири в период строительства социализма (1917-1937 гг.) : (историко-экономический очерк). Новосибирск : Наука, 1975. 263 с.
Касьяненко В.И. Завоевание экономической независимости СССР (1917-1940). М. : Политиздат, 1972. 336 с.
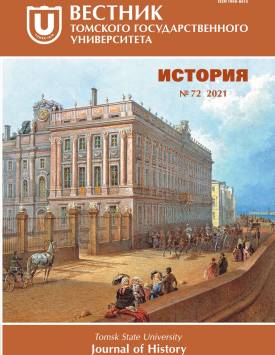
Сибирский город в начале «Великого перелома» (на материалах Тюмени) | Вестн. Том. гос. ун-та. История. 2021. № 72. DOI: 10.17223/19988613/72/7
Скачать полнотекстовую версию
Загружен, раз: 222

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью