Рассмотрена проблема экономического влияния Китайской Народной Республики на развитие региональной политики Российской Федерации после экономического кризиса 2014 г. и провозглашенного высшим руководством страны «поворота на Восток». В этой связи проанализированы причины такого экономико-политического явления, как создание в регионах страны Территорий опережающего социально-экономического развития, закон о которых был ратифицирован в пик вышеупомянутого кризиса, а также исследуется, насколько велика роль Китая в этом историческом процессе, коренным образом меняющем приоритеты инновационной политики России с целью выхода из кризиса.
The role of China in the Russian historical phenomenon of territories of priority development.pdf Совокупность неблагоприятных условий для экономического развития, сложившаяся в начале десятых годов нынешнего века (экономический кризис, неблагоприятный валютный курс, увеличение безработицы), сделала крайне актуальным вопрос о создании механизмов привлечения иностранных инвестиций с целью санации экономики. Одним из таких направлений можно считать принятый в 2014 г. Федеральный закон № 473-ФЗ «О территориях опережающего социальноэкономического развития в Российской Федерации» (ТОСЭР), который предусматривает создание зон с особо благоприятными условиями для реализации различных коммерческих проектов. Несмотря на масштабы задач, которые были призваны решать экономические кластеры нового типа, на настоящее время в научных материалах по данной проблематике отсутствуют какие-либо обоснования экономической эффективности ТОСЭР. Исследования касаются лишь реальных результатов экономической деятельности и характерны в большей степени для научно-исследовательских кругов Сибири и Дальнего Востока, особенно - Дальневосточного отделения РАН. Отдельные материалы представлены в ходе различных научно-практических конференций, проводимых, опять же, в сибирском и дальневосточном регионах. Однако ни в одном из изученных источников не рассматриваются ни исторический опыт создания в Советском Союзе и современной России территорий с особыми экономическими условиями, ни российская специфика реального их функционирования, ни влияние соседних государств на процесс их создания (при том что основная цель ТОСЭР - создание привлекательной экономической среды для зарубежных инвесторов). При этом указанные факторы являются ключевыми в научном обосновании всеобъемлющего социально-экономического явления, каким должны являться ТОСЭР. По причине отсутствия такого рода подхода к этому явлению в научной среде данное исследование было основано на первичных источниках - документах (в большинстве своем - меморандумах, соглашениях о намерениях, ориентируемых лишь на предварительные договоренности с китайскими инвесторами и не имеющих юридической силы для китайской стороны), количество, но не качество которых в муниципальных органах исполнительной власти рассматривается как главный показатель привлечения объема иностранных инвестиций. Помимо этого, в качестве изученных материалов, на которых базируется исследование, можно отметить свидетельства предпринимателей и экономистов, реакцию местного населения, проживающего в районах создания ТОСЭР, выраженную в региональных и федеральных СМИ (в том числе - независимых), статистических данных, устных и письменных заявлениях представителей федеральной и местной власти. Идея создания территорий с особыми экономическими условиями для истории отечественной экономики далеко не нова. Первые упоминания о необходимости подобных анклавов относятся еще к 20-м гг. прошлого века. Такие меры были одной из составных частей так называемой Новой экономической политики (НЭП), призванной вывести СССР из глубочайшего кризиса, последовавшего вслед за четырехлетней Гражданской войной 1918-1922 гг. Как известно, в силу резко изменившихся через несколько лет приоритетов руководства Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) (ВКП(б)) эти меры, как и вся НЭП, так и не были реализованы. В 2013 г. В.В. Путин выдвинул идею создания ТОСЭР на Дальнем Востоке [1]. После этого в среде экономистов и предпринимателей разгорелась бурная дискуссия, касающаяся целесообразности подобных экономико-политических ходов [2]. Поводом послужил неудачный опыт создания в начале 1990-х гг. 17 особых экономических зон (ОЭЗ), из которых условно эффективными оказались лишь шесть. Основной целью создания ОЭЗ тогда стала именно необходимость регулирования (увеличения) иностранных вложений в не совсем здоровую экономику России. Сравнивать экономическую стагнацию 1990-х гг. с кризисом последних лет достаточно сложно, поскольку большая разница наблюдается как в ее внутри-и внешнеполитических предпосылках, так и в глубине А.Н. Зарубин 124 ухудшения экономики. Однако реакция федеральных властей схожа - и в том и в другом случае основным средством выхода из затяжного кризиса считается массовое привлечение иностранных инвестиций. И, несмотря на неудачный опыт особых экономических зон, в 2015 г. инициатива Президента была воплощена в жизнь решением Правительства РФ [3]. Было создано девять территорий опережающего развития в Дальневосточном федеральном округе, а основной задачей их создания было четко обозначено привлечение инвестиций для развития этих территорий путем создания новых городских и сельских поселений и развития предпринимательской деятельности. Данное противоречие сложно объяснить исторической неграмотностью или политической некомпетентностью представителей законодательной и исполнительной власти федерального центра, поскольку период между двумя кризисами слишком короткий, чтобы утратить историческую память. Поэтому возникает вопрос: какие основные факторы стали движущей силой сознательной попытки повторить экономическую систему, которая уже показала свою неработоспособность в Российской Федерации как средство выхода из экономического кризиса. Для ответа на этот вопрос необходимо в первую очередь проанализировать закон о территориях опережающего развития, который определяет правовой статус ТОСЭР, меры их государственной поддержки, а также описывает порядок осуществления их деятельности. Согласно этому закону резидентам таких территорий предоставляются огромные привилегии при реализации их проектов. Перечислим основные из них. 1. Значительное снижение налогов с добавочной стоимости (суммарно до 37%) в режиме «налоговых каникул». Например, налог на прибыль для резидентов ТОСЭР составил 0-5%, налог на землю - 0%, налог на имущество предприятия - 0%. 2. Существенное снижение страховых взносов: например, во внебюджетные страховые фонды до 7,6%, отчисления в Пенсионный фонд - 6%, в фонд социального страхования - 1,5%, фонд обязательного медицинского образования - 0,1%. 3. Особый режим землепользования, который, помимо снижения ставки налога на землю, включил упрощенный порядок получения земельных участков, а также льготные ставки арендной платы. 4. Особый режим государственного и муниципального контроля, ограничение количества и длительности проверок деятельности резидентов. 5. Льготное подключение к объектам инфраструктуры. 6. Таможенный режим свободной таможенной зоны. 7. Упрощенный порядок привлечения квалифицированного иностранного персонала, увеличение квот для приема иностранных работников. По факту, единственное, чем ТОСЭР качественно отличается от прежних ОЭЗ? - максимальный срок ее создания, который составляет не 49 лет, как в случае с ОЭЗ, а 70 лет. Интересен тот факт, что все без исключения ТОСЭР впервые появились именно в дальневосточном регионе, а не в регионах Центральной России или южных приморских регионах, куда в основном делают вложения страны Европейского Союза в силу их территориальной близости. Это наталкивает на размышления о том, что первые экспериментальные ТОСЭР были нацелены на инвесторов одного конкретного региона, а именно из таких государств, как Япония, Республика Корея и, конечно же, Китай. Российско-китайские отношения как в политической, так и в коммерческой сфере претерпели ряд колоссальных изменений за период XIX-XX вв. В течение всего XIX и первой половины XX в. Россия выступала с покровительствующей позиции по отношению к Китаю, будь то посредничество графа Н.П. Игнатьева на британо-китайских переговорах после второй опиумной войны или всесторонняя поддержка Советским Союзом молодой Китайской Народной Республики Мао Цзэдуна. Однако после распада Советского Союза и начала политики реформ и открытости в Китае ситуация изменилась. Китай превратился в экономическую сверхдержаву, в то время как Россия переживала один экономический кризис за другим. В условиях, когда превосходство в военной мощи перестало играть ключевую роль в международных отношениях [4], можно было констатировать факт захвата Китаем стратегической инициативы в рамках двусторонних отношений с Россией. К какому же состоянию это привело российскокитайские отношения? По словам нынешнего посла Китайской Народной Республики Ли Хуэя, «отношения между Россией и Китаем стали успешным примером построения нового типа международных отношений на основе взаимовыгодного сотрудничества. Они играют важную стабилизирующую роль, способствуют установлению безопасности и мира в регионах и во всем мире. У Москвы и Пекина большие планы на будущее» [5]. В последнее десятилетие действительно наблюдается прогрессирующее развитие всех видов отношений КНР и РФ. Однако если с политической составляющей и дружественной риторикой в адрес друг друга проблем практически нет, то с экономическим сотрудничеством ситуация остается далеко не идеальной. Даже провозглашенный в 2014 г. Президентом России В.В. Путиным «поворот на Восток» с российской стороны оставался в течение продолжительного времени без необходимого ресурсного обеспечения, а с китайской был просто не замечен. Если в период с 1991 по 2000 г. отмечались в основном рост приграничной торговли и тихая экспансия китайского мелкого бизнеса на территорию Восточной Сибири и Дальнего Востока, то с середины нулевых годов на первый план выходят инвестиции крупного китайского бизнеса в различные сферы российской экономики [5]. Стимулирующим фактором данного процесса с 2014 г. стали действия российской и китайской властей, которые предприняли ряд последовательных шагов по сближению. В России этот вектор развития, направленный на интенсификацию процесса сближения со странами Востока, был вынужденным в связи с событиями начала 2014 г., которые спровоцировали Китайский фактор в российском историческом феномене территорий опережающего развития 125 отток капитала западных стран и освобождение ниши, которая требовала заполнения. В Китае, в свою очередь, не могли не отреагировать на появившиеся в силу глобальных геополитических и экономических изменений возможности, и после того как экономический кризис пошел на спад, в разных частях страны от Дальнего Востока до Калининградской области стал заметен массовый приток делегаций, представляющих крупные китайские компании, у которых появился огромный интерес к вновь открывшемуся инвестиционному потенциалу России. Одновременно с этим в Китае стартовала реализация стратегической глобальной программы - инициативы председателя Си Цзиньпина «Один пояс - один путь», в которой России отводилась если не ключевая, то крайне важная роль [7], поэтому у китайских предпринимателей появился дополнительный стимул вкладывать свои инвестиции в российскую экономику, получая торгово-экономические преференции от обеих сторон. Предприниматели из Китая всегда обращали внимание на обеспечение собственных прав и преференций. Это касалось как торговли (с самого ее начала, включая приграничную), так и современных инвестиционных проектов. С российской стороны в обеспечении прав инвестора заинтересована главным образом государственная власть, ее же ключевая задача - создание благоприятного информационного сопровождения деятельности иностранной компании в любом российском регионе. Преференции китайские компании склонны искать в таких областях, как налоговая нагрузка, иммиграционная политика государства, таможенная бюрократия, коррупционная составляющая регионального и местного чиновничества и т.д. Отсутствие адекватной альтернативы китайскому капиталу, которое не слишком скрывала российская власть, предоставило возможность представителям китайского бизнеса в мягкой форме настаивать на таких преференциях, а в отдельных случаях - требовать их. Требования эти поразительным образом схожи с теми преференциями для потенциальных резидентов ТОСЭР, которые были немногим позже закреплены в Законе № 473-ФЗ. При этом Президент России В.В. Путин на различных экономических форумах, политических площадках, саммитах с участием представителей бизнеса Китайской Народной Республики неоднократно лично призывал последних делать вложения в РФ, обещая и налоговые преференции, и таможенные льготы, и прибыль, во много раз превышающую вложения инвестора [8]. Стоит отметить, что вопрос налоговой нагрузки на коммерческие проекты крайне важен для инвесторов из Китайской Народной Республики и поднимается одним из первых на любых переговорах, причем китайская сторона предъявляет если не ультимативные запросы, то как минимум требования по снижению налоговых квот на различные стороны реализации проекта. Поскольку по законодательству никакими иными способами, кроме как создание какого-либо вида особых экономических условий на территории проекта, удовлетворить их требования невозможно, местным властям приходится идти на уступки, чтобы не потерять потенциального инвестора и в то же время действовать в рамках закона. Создание ТОСЭР в данном случае видится как наиболее приемлемый вариант сохранения интереса у безальтернативного инвестора к данной территории и удовлетворения его требований. Примером может послужить ТОСЭР в г. Юрга Кемеровской области, которая не просто была создана в короткий срок, но и с формулировкой основной цели - «привлечение иностранных инвесторов для создания в городе одного из логистических центров Сибири». Данный проект логистического центра был предложен местной администрации крупным китайским промышленником Чжу Сяосинем, который во время рабочих совещаний в городской администрации настоятельно требовал налоговые и миграционные преференции для его реализации [9]. Большая часть всех ТОСЭР (18) располагается на территории Дальнего Востока [10], и практически все они были созданы по схожей схеме удовлетворения требований именно китайских инвесторов. В настоящее время основным источником инвестиционных вливаний в Дальний Восток является Китай. Общая стоимость проектов, которые китайские инвесторы намерены реализовать на Дальнем Востоке, превышает 30 млрд долларов США [11], при этом наиболее активно развивается взаимодействие в нефтегазовой промышленности, сельском хозяйстве и финансовой сфере. При этом статистика показывает, что при всех преференциях и послаблениях объем налоговых доходов, полученных от резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, «не оказывает существенного влияния на доходы бюджетов регионов Дальнего Востока». Однако в то же время можно констатировать резкий приток рабочей силы из Китая на территорию Дальнего Востока и активное освоение природных ресурсов этого региона. Анализ реакции специалистов и местного населения регионов, где реализуется закон о создании ТОСЭР, также говорит о том, что китайский фактор в принятии ключевых решений является одним из важнейших, если не основополагающим. Закон подвергается жесткой критике [12, 13] за упрощение доступа граждан КНР к аренде земель, природным ресурсам и льготной экономической деятельности в ТОСЭР. Против участия японского, южнокорейского и любого прочего бизнеса при этом никаких возражений не было высказано. По мнению одного из основателей и первого редактора Российской газеты Бориса Миронова, принятие 29 декабря 2014 г. федерального закона «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» № 473-ФЗ может значительно повлиять на ситуацию на Дальнем Востоке. Это связано с тем, что принятие закона сопровождалось внесением изменений в Гражданский, Градостроительный, Трудовой, Земельный и Лесной кодексы. В совокупности эти изменения открывают широкие перспективы для ведения хозяйственной деятельности в РФ для иностранных компаний, использующих иностранную рабочую силу. А наиболее вероятным местом проявления такой активности являются слабоза- А.Н. Зарубин 126 селенные территории Дальнего Востока, граничащие с КНР [14]. Так, ст. 28 Закона № 473-ФЗ позволяет иностранным компаниям проводить принудительное изъятие земельных участков и расположенного на них недвижимого имущества по ходатайству иностранной компании. При этом сумма компенсации за отчуждаемое имущество определяется самой компанией. Статья 18 Закона № 473-ФЗ обязывает работодателя соблюдать Трудовой кодекс РФ. Однако в последний было внесено изменение (ст. 8 Закона № 519-ФЗ), которое относится к ст. 351 гл. 55 Трудового кодекса РФ: 1) получение разрешений на привлечение и использование иностранных работников не требуется; 2) разрешение на работу иностранному гражданину, привлекаемому для осуществления трудовой деятельности резидентом территории опережающего социальноэкономического развития, выдается без учета квот на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности. Все указанные изменения поразительным образом совпали с теми «пожеланиями», которые выдвигаются китайской стороной практически на всех двусторонних переговорах. В январе 2016 г. крупный предприниматель Олег Тиньков раскритиковал федеральных и региональных чиновников Камчатского края за сложности с выделением земли и инфраструктурой для планируемой им гостиницы: «...разговоры эти про территории опережающего развития, про Дальний Восток, про гектары бесплатно - болтовня». При этом с выделением земли для китайских резидентов Сахалинской ТОСЭР «Горный воздух» под строительство и вырубку леса никаких проблем не возникало [15]. Согласно мнению обывателей, наиболее точно озвученному российским кинорежиссером Никитой Михалковым, проникновение большого числа иностранных граждан на территорию РФ может оказать серьезную помощь в политике тихой экспансии, проводимой со стороны КНР на территории РФ [16]. При всей описанной выше негативной реакции и явном отсутствии каких-либо положительных результатов, территории опережающего социального экономического развития не просто продолжают свое существование, но и увеличиваются в числе. При этом, как показывает практика, единственными бенефициарами данного феномена можно обозначить лишь резидентов - представителей Китайской Народной Республики. Это же, в свою очередь, говорит о том, что фактор Китая в данном историческом явлении играет крайне важную, если не определяющую роль. Данный вывод, подобно лакмусовой бумаге, делает очевидными колоссальное влияние КНР на развитие региональной политики в новейшей истории Российской Федерации, а также безальтернативность китайского капитала для наиболее перспективных в экономическом аспекте регионов России, а именно регионов Дальнего Востока. В будущем это может привести к монополии китайского бизнеса во всех сферах этого региона, что вкупе с политикой тихой экспансии может привести к частичной потере влияния и контроля федерального центра над субъектами дальневосточных территорий. В заключение отметим, что особенности провозглашенного в 2014 г. президентом РФ «поворота на Восток» лежали в геополитической плоскости и были обусловлены не столько собственно решением руководства страны, сколько сложившейся международной обстановкой. Неудачи России и Китая в плодотворном налаживании отношений с Западом способствовали сближению стран, а также наращиванию сотрудничества, которое в итоге было выражено в представленной формулировке. Кроме непосредственно региональных приоритетов был обозначен и вектор развития, который определяет основную специализацию и направления развития сотрудничества. Ведущая роль при этом отводилась регионам России, находящимся в непосредственно близости к Азиатскому региону. Однако уже весной 2017 г. на российско-китайской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» прозвучал неутешительный вывод о том, что российский бизнес, по сути, слабо представляет нужды Китая [17]. Следовательно, в настоящее время у него нет понимания, в каком направлении перспективно развивать сотрудничество с КНР и какие проблемы ожидают бизнес при выстраивании связей. Похожая ситуация сложилась и с другими странами Востока. Пробуксовка «поворота на Восток» стала свершившимся фактом, поскольку ощутимой экономической выгоды для выхода из затяжного кризиса его инициатором получено не было, а объект «поворота» в результате просто воспользовался предоставленной исторической возможностью усилить влияние в регионе.
Российско-китайская конференция «Россия и Китай: современные вызовы развития». URL: https://ru.valdaiclub.com/events/own/rossiysko-kitayskaya-konferentsiya/(дата обращения: 05.02.2020).
Михалков Н. Россиянам настойчиво внушают чувство вины : передача «Бесогон TV». 2016. 11 июня. URL: https://www.youtube.com/watch?v=G6AqtvsgJjw (дата обращения: 08.12.2019).
Закон «О территориях опережающего развития»: мнение Бориса Миронова. URL: https://mnenie.me/persona/boris-mironov (дата обращения: 17.02.2020).
Тиньков отказался строить отель на Камчатке за 250 млн руб. // РБК. URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/56a0bc329a7947d1ae87705f (дата обращения: 09.02.2020).
Артамонова И. Горелые ядохимикаты оставили после себя китайцы под Иркутском // Вести-Иркутск. 2015. 21 авг. URL: https://www.youtube.com/watch?v=u3yVCrK0V-4 (дата обращения: 12.03.2020).
Трофимова И., Кулигина А. Китайский тупик : [передача Забайкальского телеканала о передаче в аренду 2 млн гектар в Тарбагатайском районе (Бурятия)]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=V-wexi4dKB4 (дата обращения: 10.02.2020).
Проекты, которые китайские инвесторы намерены реализовать на Дальнем Востоке, оцениваются в $30 млрд. URL: http://www.finmarket.ru/news/4729788 (дата обращения: 07.06.2019).
Что нужно знать об условиях ТОР и СПВ на Дальнем Востоке. URL: https://pro.rbc.ru/demo/5cffaabd9a7947f38461e657 (дата обращения: 03.11.2019).
Юрга получит статус территории опережающего социально-экономического развития // Кемеровская область. 2015. 1 окт. URL: http://kemoblast.ru/news/e-konomika/2015/10/01/yurga-poluchit-status-territorii-operezhayushhego-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya (дата обращения: 27.02.2019).
Выступление президента России В.В. Путина на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», 19.10.2017, г. Сочи. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/55882 (дата обращения: 09.02.2020).
Си Цзиньпин: «Один пояс и один путь» откроет новые горизонты мечты. URL: http://politics.people.com.cn/n/2014/0811/c1001-25439028.html (дата обращения: 20.01.2020),
Шлапеко Е.А., Степанова С.В. Развитие приграничной торговли в России: общие тенденции и особенности // Вестник Забайкальского госу дарственного университета. 2017. № 3. С. 186-208.
Посол КНР в РФ: Китай и Россия укрепили всеобъемлющее стратегическое взаимодействие. URL: https://www.interfax.ru/interview/665251 (дата обращения: 13.09.2019).
Клименко А.Ф. Военный фактор и его влияние на международно-политическую систему Восточной Азии. URL: https://flot.com/publications/books/shelf/safety/7.htm (дата обращения: 24.11.2019).
О территориях опережающего социально-экономического развития в РФ : федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ. URL: https://rg.ru/2014/12/31/territorii-dok.html (дата обращения: 09.08.2019).
Смирнов М.А. Территории опережающего развития: высокие риски и необходимость активной отраслевой государственной политики // Финансовая аналитика, проблемы и решения. 2015. № 1. С. 20-43.
Послание Президента Федеральному Собранию. 12декабря 2013 г. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/19825 (дата обращения: 09.02.2020).
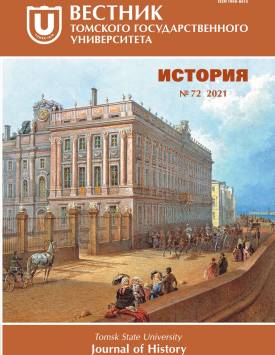

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью