Религиозная публицистика «Тобольских епархиальных ведомостей» конца XIX - начала ХХ века: проблемы источниковедческого изучения
Выявляются проблемы источниковедческого изучения религиозной публицистики на примере публикаций в «Тобольских епархиальных ведомостях» конца XIX - начала XX в. Особенности источниковедческого изучения названных текстов связываются со спецификой публицистического жанра и обстоятельствами их происхождения. Подчеркивая широкий информационный потенциал публикаций «Тобольских епархиальных ведомостей», авторы среди традиционных источниковедческих проблем особое внимание уделяют проблеме интерпретации содержания данного источника.
Religious publicism of “Tobolsk diocesan gazette” in the end of XIX - beginning of XX century: problems of source study.pdf В отечественной историографии до сих пор не существует специальных работ по источниковедческим особенностям церковной (религиозной, православной) публицистики XIX - начала XX в. Филолог Е.Г. Позднякова отметила, что «церковная журналистика дореволюционной России представляет собой сложный и до сих пор почти не изученный памятник истории общественной мысли» [1. С. 17]. Близко к теме прилегает монография Р.В. Жолудя [2] о зарождении православной публицистики и ее изначальных чертах (о чертах раннехристианской проповеди писала и Н.Б. Мечков-ская [3]). Большой вклад в развитие этой тематики вносят филологические разработки понятия и специфики «религиозного дискурса» Е.В. Бобыревой [4, 5], Е.А. Кожемякина [6], А.С. Стаценко [7], В.И. Карасика [8], А.Н. Смолиной и О.А. Лубкиной [9], Е.Г. Яси-новской [10] и др. Отдельные аспекты бытования «Тобольских епархиальных ведомостей» (далее - ТЕВ) можно проследить в работах К.Е. Нетужилова [11, 12], И.Ф. Верещагина [13], А.А. Валитова [14, 15], О.А. Петровой и А.А. Андреевой [16], Е.Н. Коноваловой [17], О.П. Цысь [18]. Названные авторы изучали историю церковной периодики, в том числе организацию, финансирование, состав редакции ТЕВ, источники внешнего влияния на это издание, - все это позволяет более объективно рассматривать публицистическое содержание указанного журнала. Оценка информационного потенциала епархиальных изданий содержится в трудах О.С. Стрелковой [19, 20], Н.А. Лысенко [21], А.В. Васильевой [22], Н.Н. Морозовой [23], И.В. Воронцовой [24] и др. Данная статья призвана восполнить нехватку теоретико-методологического материала, необходимого для полноценного изучения религиозной публицистики: авторы выявляют особенности, функции, жанровую специфику этого источника, рассматривают проблему его происхождения, очерчивают информационный потенциал, намечают пути интерпретации и верификации, наконец, дают собственное определение понятию «религиозная публицистика». Такой вид церковных периодических изданий, как епархиальные ведомости, появляется в российском информационном пространстве во второй половине XIX в. Их двухчастный формат и программа были во многом скопированы с губернских ведомостей. К концу XIX в. такое периодическое издание имелось в большинстве епархий Российской империи [12. С. 140], включая Тобольскую. При этом оно могло быть «единственным церковным средством массовой информации на местном уровне» [Там же. С. 137]: остальные региональные повременные издания Тобольской губернии, за исключением так называемых «листков» Тобольского епархиального братства (издавались с 1894 г.) [17. С. 202-204], представляли светское крыло местной периодики. Всего, по данным «Тобольских губернских ведомостей», на 1896 г. в губернии выходило 45 наименований повременных изданий [25. С. 330]. Тобольские епархиальные ведомости издавались с 1882 по 1919 г. [15]. Святейший Синод способствовал распространению ведомостей, так как журнал был полезен и с административной стороны, поскольку обещал «сокращение консисторской бюрократической переписки», «надежный способ сообщения» между учреждениями епархии, и как «новый способ пастырского воздействия на паству» [11. С. 175]. Кроме того, издание выполняло функцию посредника «сразу в нескольких плоскостях: внутри духовенства епархии, между клиром и паствой, во взаимоотношениях церкви и светского мира» [13. С. 12]. Следует отметить, что в современной историографии нет устоявшегося мнения по поводу принадлежности епархиальных ведомостей к газетному или журнальному типу (при этом губернские ведомости принято относить к газетам, как делали и современники издания [26, 27]). Подробное рассмотрение этого вопроса выходит за рамки данной статьи. Укажем только, что мы, вслед за рядом авторов [15, 23, 28], считаем, что более корректно называть епархиальные ведомости «журналом», принимая во внимание и позицию самих издателей (на обложке ТЕВ в № 11, 12 за 1918 г. прямо указано - «журналъ»). Религиозная публицистика «Тобольских епархиальных ведомостей» 15 «Тобольские епархиальные ведомости» издавались на деньги (субсидии) 433 церквей губернии (общая сумма около 2 тыс. руб.), и этих средств не всегда хватало на все необходимые расходы [17. С. 210-211]; подобный способ финансирования был характерен для всех изданий этого типа. С 1890 г. ведомости печатались в типографии местного новообразованного Тобольского епархиального братства святого великомученика Димитрия Солунского, членами которого стали многие сотрудники ТЕВ, в том числе первый редактор П.Д. Головин, протоиерей А.А. Грамматин, протоиерей Н.Г. Грифцев [18. С. 86-88]. В связи с этим издание испытывало влияние братского устава: в уставе значились такие приоритеты деятельности братства, как «распространение просвещения в духе православной церкви, охранение чистоты нравов и искоренение обычаев и явлений, нежелательных с православной точки зрения» [Там же. С. 64-65]. Кроме того, братство было тесно связано с государственной властью (губернатор признавался почетным членом и покровителем) и пользовалось ее поддержкой [Там же. С. 78]. Ведомости состояли из двух разделов: официального (для публикации документов и материалов делового характера) и неофициального [11. С. 176; 15. С. 408409]. В неофициальном разделе публиковались произведения, которые мы можем назвать публицистическими. Именно эти тексты являются предметом настоящего исследования. Прежде чем анализировать заявленный источник, необходимо определить сущность публицистики как явления, возникшего в ответ на определенные общественные потребности и в определенных достаточно устойчивых формах, выявить ее основные черты. Тем более что при использовании публицистических источников исследователь сталкивается с отсутствием однозначного определения публицистики в рамках не только исторической науки, но и литературоведения (публицистика в XIX-XX вв. часто трактовалась именно как область литературы [20. С. 82; 30. С. 97]). Это обусловлено сложностью самого источника: публицистикой в широком смысле является «тип творческой деятельности, подразумевающий открытое, не опосредованное авторское слово и прямой контакт с аудиторией в выражении своих мыслей» [30. С. 98], «любая статья, критическая заметка, которая позволяет начать диалог с читателем на страницах повременного издания» [29. С. 89], в то же время публицистика «находится в постоянной динамике», обрастая новыми функциями в ответ на изменение социальных потребностей, а ее главная социальная функция - одновременно формирование (цель, присущая в большей степени периодической печати) и выражение общественного мнения [Там же. С. 90]. Современная научная литература, посвященная рассматриваемому жанру, позволяет выделить основные черты публицистики: 1) неразрывная связь с актуальными вопросами на широкую тематику бытия индивида и общества («может потенциально охватывать все явления действительности» [30. С. 99]); 2) цель автора - воздействовать на аудиторию, убедить, внушить, побудить к чему-либо, сформиро вать «социально-оценочную позицию» [31. С. 109]. Автор публицистического произведения заведомо выступает не как независимый наблюдатель, а как активный, «ангажированный» участник явной или скрытой идейной полемики [2. С. 8; 29. С. 84]); 3) стремление автора достаточно четко формулировать и аргументировать свою позицию, не допуская ее множественных интерпретаций [30. С. 102], хотя, безусловно, есть исключения из этого правила, когда автор оставляет простор для читательского воображения, но это именно редкие исключения (их можно встретить, например, в церковных некрологах, где зыбкая тема загробной жизни сама по себе предполагает наличие тайны и умолчания [32]); 4) принадлежность автора к какой-либо общности, от имени которой он выступает и на авторитет которой опирается [24. С. 169; 30. С. 100], и одновременно высокий уровень свободы авторского творчества, а значит, и субъективности; 5) трансляция прежде всего через каналы массовой коммуникации (в нашем случае это церковная периодическая печать). На автора при этом оказывают влияние «расчетная аудитория, функциональная направленность, жанровые модели, тематика и проблематика, позиция, периодичность, потенциально допустимый объем публикации и другие типологические характеристики издания» [30. С. 103]; 6) лингвистические характеристики, особый «публицистический» стиль, а именно: оценочные высказывания, противопоставление «правильного» и «неправильного», наличие призывов, глаголов в повелительном наклонении и т.д.; использование литературных приемов, в том числе средств выразительности (гиперболы, метафоры, оксюмороны и пр.), «эстетическая обработка» [31. С. 115]. Перечисленные особенности публицистического жанра в целом не исчерпывают специфику религиозной публицистики, для которой характерны авторитарный стиль обращения к аудитории, «назидательность» в сочетании с исповедальностью, использование религиозных речевых формул, цитат, взгляд на человека как на одновременно избранное и падшее существо, принцип бренности земного мира и др. [2. С. 91-96, 98-100]. Религиозная публицистика нацелена на описание и интерпретацию основ православного учения, сохранение и воспроизводство общественного порядка и системы ценностей и поведенческих норм, установление и поддержание интеграции верующих на основе репрезентации конкретных моделей опыта и мировоззрения [6. С. 35, 36]. Отсутствие общепринятого четкого определения публицистики и как метажанра, и как вида источников, многофункциональность, разнообразие форм порождают проблему выявления публицистических статей в церковной периодической печати, поскольку практически все содержание епархиальных ведомостей в той или иной степени обладает публицистичностью. Е.А. Кожемякин считает, что в рамках религиозного дискурса «каждая рутинная ситуация может быть оценена с позиций религиозного учения, ей может быть приписан определенный ценностный статус...» [Там же. А.А. Бушуева, Т.В. Козельчук 16 С. 40], описание любой ситуации носит заведомо оценочный характер [6. С. 41]. Это соответствует и мнению исследователей о том, что публицистика в XIX в. «сращивается с периодикой» [29. С. 81]. При выявлении публицистических текстов следует учитывать содержание понятия «религиозная публицистика». Очевидно, главным ее признаком является отчетливо религиозное мироощущение автора, освещение событий прежде всего с религиозных позиций, что можно выявить при анализе материалов: цитаты из религиозных текстов, упоминания о фактах церковной истории, религиозных символах, ценностях, авторитетах. Это не только произведения, созданные представителями духовенства, поскольку в составе епархиальных ведомостей присутствуют и тексты выходцев из иной среды, относящиеся к православной публицистике в связи со спецификой темы, стилистическими особенностями, включенностью в «метатекст» официального периодического издания РПЦ, а также отчетливо «православной» позицией автора. При этом далеко не все публицистические сочинения о религии или иных вопросах, написанные людьми «христианской культуры» с использованием соответствующих цитат и стереотипов, можно отнести к «православной публицистике». Также и сочинения, написанные с использованием религиозных идей, терминов, цитат и тому подобного, отнюдь не всегда являются ею. Не следует забывать, что публицист представляет некую социальную группу и вполне осознанно соотносит себя с ней, хотя рамки этой группы могут быть весьма расплывчатыми. В качестве проблемного примера можно привести статью «Освящение новой часовни в селе Шатровском, Ялуторовского округа» [33]. С одной стороны, она посвящена частным обстоятельствам отдельного события из жизни села, с другой стороны, автор поднимается на уровень религиозной проповеди: «...будем твердо содержать православную веру. Сия вера правая, сия вера истинная хранится в церкви православной, которая есть столп и утверждение истины.», «.будем царелюбивыми и верными сынами Царя и Отечества.» [Там же. С. 8]; использует стилистические приемы, характерные для публицистики (призывы, риторические вопросы, оценочные высказывания и др.). С нашей точки зрения, данная статья может быть отнесена к публицистическим источникам: рядовое событие в изложении автора стало лишь контекстом, поводом для религиозной проповеди. Однако другая статья - «Освящение храма при селе Бутаков-ском, Тарского округа» - несмотря на внешнее сходство с вышеописанной, имеет меньший потенциал публицистичности, поскольку ее автор сосредоточен на описании обстоятельств освящения сельского храма, а не на духовной проповеди [34]. В ТЕВ встречается и нецерковная публицистика, в частности статья врача Н. Де-Карлино «О явлениях, предшествующих смерти, и признаках мнимой и действительной смерти», в которой врач убеждает читателя использовать научные данные для «правильного суждения о том, жив человек или мертв» [35. С. 293]. Данная статья не может быть отнесена к православной публицистике из-за особенностей фигуры автора и содержания самого текста, хотя она и носит убеждающий характер. Встречаются и материалы по сельскохозяйственной тематике, например статьи о мерах борьбы с вредителем посевов [36]. Религиозная публицистика, по мнению Р.В. Жолудя, является в широком смысле «проповедью» христианского учения, т.е. это «метажанровое явление» [2. С. 98], скорее метод, чем строгая жанровая форма. При этом конкретные жанры (или формы, с помощью которых воплощаются цели публицистики) все-таки имеют свою специфику: важно обращать внимание на то, в какой степени и какими способами «форма» определяет содержание статьи. О.С. Стрелкова писала о специфике жанра проповеди для сельского населения (к этому жанру она отнесла публикации под заглавиями «Поучение.», «Слово.», «Речь.») и ее многотемности, связи с народной культурой (за счет использования публицистом фольклорно-этнографического материала) [19. С. 135]. Она же выявила специфику жанра рассказа о чудесах на страницах «Курских епархиальных ведомостей»: он был призван укрепить православную веру и противостоять распространению атеизма, сектантства, других религий, предоставить «подтверждение» церковных догматов [20]. Оценить влияние жанровых стереотипов на характер публицистических текстов ТЕВ и одновременно на особенности их источниковедческого изучения позволяет пример некролога, или, точнее, «некролога-эпитафии». А.А. Тертычный обозначает этот жанр как «напоминание о достоинствах умершего человека, представленных в их социальном аспекте», когда главное - рассмотреть добродетели человека как «авторитетные критерии, по которым оценивается поведение» [37]. Именно оценочный характер отличает некролог-эпитафию [38, 39]. В большинстве случаев мы не находим в некрологах упоминаний о недостатках покойного, что влияет на достоверность изображения конкретного человека. Данный принцип выразил один из некрологистов ТЕВ: «Человек не совершенство. Можно конечно. отыскать темные пятна и слабые стороны, но где и у кого нет тех или иных недостатков и где и у кого их не было?.. Не судите, сказал Спаситель, да не судимы будете» [32. С. 293]. Это позволяет говорить о сходстве данного жанра с «житиями» святых: важно создать пример для подражания, позитивный образ священнослужителя как посредника между людьми и богом. Поэтому многие индивидуальные черты, особенно нейтрального (внецерковного, бытового) или негативного характера, опускались. Следовательно, анализируя некрологи-эпитафии, необходимо учитывать определенную условность их содержания, достаточно однотипный характер: их авторы стремились запечатлеть в истории и умах современников положительный облик умершего, его добродетели и достоинства, а не дать объективно -правдивый рассказ о его жизни и личности [40, 41]. Очевидно, что в некрологах отражены идеалы публицистов - в том числе идеальные черты абстрактного христианина (мирянина или духовного лица) и образцы «идеальной смерти»; менее очевидный пласт информа- Религиозная публицистика «Тобольских епархиальных ведомостей» 17 ции - это пространственные аспекты смерти («жизненный путь», его цели, ориентиры, варианты, восприятие окружающего пространства, «якорные места» - наиболее значимые для отдельного человека, путь души и путь тела, связанные с кладбищем религиозные сюжеты и народные суеверия, пространственные стереотипы и др.), а также восприятие «смерти Другого» - переживание авторами некрологов смерти ближнего, защитные реакции при мысли о собственной смерти. Кроме того, можно выделить жанр «беседы» православного священнослужителя со старообрядцами или представителями иных конфессиональных групп: в формате «беседы» православный автор стремится доказать несостоятельность религиозных верований своих оппонентов и обратить их в свою веру [42]. В близком по стилю и задачам жанре «житейской истории» приводятся личные истории (записанные «со слов» рассказчика или же им самим, а также не исключено, что выдуманные) бывших старообрядцев, ушедших из «раскола» в православие [43, 44]. Жанровое разнообразие и объем публикаций позволяют говорить о богатом информационном потенциале этой разновидности источников. Вот некоторые из тем, нашедших отражение в публикациях ТЕВ: борьба обличительно-поучительного характера с теми явлениями, которые церковь определяла как человеческие «пороки» (проституция, пьянство, курение, карточные игры, пристрастие к кино и светской развлекательной литературе); отношение к женщине в христианском учениии, положение женщины в обществе (в браке и семье, в церковной жизни, в образовательной деятельности); повседневность духовенства и крестьян, крестьянский менталитет, суеверия и отношение к «чудесам»; война как феномен в осмыслении православных авторов (русско-японская, Первая мировая война, Гражданская война); идеал христианина - мирянина или священнослужителя; ценности православного человека, в том числе понимание «греха» и «добродетели», «зла» и «добра», жизни и смерти; отношение к телу и телесности, к сексуальности; миссионерство и отношение к раскольникам, сектантам и иным конфессиям; история Тобольской епархии, местные события (открытие часовен, освящения церквей и др.); взаимоотношения РПЦ и государства (монархии), освещение публицистами важных государственных событий и моментов из жизни царской семьи; образование (главным образом народное и церковное); вопросы богословия, основы учения в изложении авторов конца XIX - начала XX в.; понимание публицистами феномена церковного института и их мнения о возможных улучшениях (реформах) в его функционировании; естественнонаучные концепции и отношение РПЦ к активно развивающимся в этот период светским наукам; участие РПЦ в благотворительной деятельности. Обозначенное содержательное наполнение религиозной публицистики ТЕВ определяет ее источниковедческие возможности, диктует целесообразность вовлечения рассматриваемых текстов в исторические реконструкции, что может быть корректно осуществлено только после проведения источниковедческого исследования. Принципиальное значение в источниковедческом изучении публицистики приобретает проблема происхождения источника. Епархиальные ведомости являлись официальным изданием РПЦ: глава епархии назначал и смещал редактора (с 1906 г. этим занимался Синод), цензора и других должностных лиц, ответственных за издание. Соответственно, «умонастроение и общий кругозор преосвященного владыки играли решающую роль при формировании специфики издания. Круг потенциальных сотрудников редакции ограничивался одним или несколькими просвещенными и деятельными чиновниками консистории либо преподавателями семинарии» [11. С. 178, 179]. Журнал создавался совместными усилиями преподавателей Тобольской духовной семинарии, выполнявшими главным образом редакторскую и корректорскую работу, членами статкомитета и губернского музея. Первым редактором ТЕВ стал ректор семинарии П.Д. Головин (1845-1910), кроме него редактуру осуществляли преподаватель Тобольской духовной семинарии Н.А. Городков (с 1892), учитель Тобольской духовной семинарии, начальник Тобольского мужского духовного училища А.А. Городков (с 1901 ), протоиерей, ключарь Тобольского кафедрального собора Г.С. Тутолмин, преподаватель географии и природоведения духовного мужского училища А.А. Зырянов (с 1914), член Тобольского епархиального училищного совета Я.П. Афанасьев (с 1915) [15, 16]. Свидетельства о роли редакции в выборе материалов для печати и содержании статей находятся на страницах ТЕВ. Так, в № 2 за 1895 г. есть интересное примечание от редакции к статье «Разбор данного старообрядцем Иоанном Журавлевым ответа на вопрос православного миссионера...»: «Редакция обыкновенно поставляется в немалое затруднение слишком обширным размером... статей, который объясняется исключительно пространным изложением мыслей. Такое без нужды и явно... неудобное изложение - довольно обычный и часто наблюдаемый недостаток сочинений противораскольнических миссионеров вообще... Всякого рода печатные “ответы”, “возобличения”, “замечания” нужно излагать ясно, просто, кратко, точно; здравая... мысль не усугубится в своей истинности от длинных выписо... обличительного красноречия... В ответе старообрядца Журавлева исправлено правописание...» [45. С. 21]. Мы видим, что редакция журнала осуществляла правку материалов. Однако ведомости выражали не только мнение редакции, часто созвучное мнению церковного начальства: сама редакция испытывала воздействие идей внештатных корреспондентов-читателей [13. С. 12], представлявших общественное мнение, и в ряде случаев допускала его до публикации. Внештатными корреспондентами в основном были активные священники, преподаватели духовных учебных заведений, законоучители в светских школах, т.е. провинциальная церковная интеллигенция [Там же. С. 19], а также, крайне редко, миряне (например, помещик М. Тарасов), протоиреи М. Лебедев, М. Боголепов, преподаватели проф. Ивановский, И. Сырцов, приходские священники В. Арефьев, В. Тверин, А. Коровин, А.А. Бушуева, Т.В. Козельчук 18 противораскольничьи миссионеры К. Беллюсов, Н. Богословский [16, 42, 46-48]. При источниковедческом изучении публицистики, кроме прочего, складывается проблема разделения собственно авторского, индивидуального вклада и того идеологического фундамента, на котором базировался публицист. В православной публицистике, где автор в обязательном порядке опирается на объемную христианскую традицию и ощущает себя частью особой «православной» среды, его личность нередко оказывается на периферии - на первый план выходит «среда». Кроме того, среди духовенства одним из основополагающих было стремление опереться на авторитеты прошлого, найти ответы в созданных ранее текстах, а не предложить «авторские» варианты. В первую очередь это касается тем, издавна волновавших христианских мыслителей и успевших обрасти многочисленными истолкованиями и комментариями. Например, мнения авторов 1890-1910-х гг. по поводу сексуальности лежали строго в русле многовековой традиции церковной регуляции сексуальной жизни и не отличались оригинальностью: статьи пестрят ссылками на жития святых (Четьи-Минеи, Пролог, Киево-Печерский патерик) [49], ветхозаветную историю Онана [50. С. 154] и библейские послания апостола Павла [51. С. 25-26], высказывания христианских авторитетов IV-VI вв. (Иоанна Кассиана, Ефрема Сирина, Исайи Отшельника, Иоанна Лествичника, Иоанна Постника [50. С. 153163]) и Никодима Святогорца (XVIII в.) [50]. Отсюда -необходимость предварительного изучения исследователем истории церкви, идейного наследия христианских богословов для понимания «фундамента» церковной публицистики. В то же время публицисты конца XIX - начала XX в. не могли обойти вниманием новые и не имеющие толкования в традиции проблемы, поставленные перед церковью. Именно в попытках сформулировать отношение к этим проблемам наиболее сильно проявлялись личностные черты авторов, возникало пространство для внутрицерковных дискуссий. Два показательных примера - статья журналиста, политэконома А.Е. Богдановского [52] и «поучение» епископа Тобольского Антония [53], отразившие отнюдь не одинаковые точки зрения насчет внерелигиозной этики, усилившей свои позиции на фоне успехов науки. Обе статьи были одобрены редакцией ТЕВ, в противном случае они не могли быть напечатаны; это говорит о готовности редакторов к восприятию умеренно различающихся мнений. Часть публикаций ТЕВ была анонимной. В среде христианских писателей анонимность имеет корни в традиции библейской и в целом древневосточной литературы, сочетается с пониманием автора как посредника между «божественным словом» и людьми, а не как самостоятельного мыслителя-индивидуалиста [2. С. 35, 37]. При этом средства для раннехристианской проповеди черпались, помимо прочего, из античного наследия в виде риторики (способы доказательства, риторические обращения), теории диалога (диалектики), эристики (искусства спора), с чем был связан рост значимости авторского Я вопреки восточной библейской традиции «анонимности» [Там же. С. 41-43]. Но не все статьи в ТЕВ анонимны и не везде чувства автора скрыты. Например, в некрологе священник Николай Богословский передал свою тоску по сослуживцу: «Ах, о. Алексей, о. Алексей!.. Жить бы тебе да жить!..» [54. С. 275]. Указанная проблема соотношения традиции и авторского начала в православной публицистике диктует необходимость подходить к каждому тексту и выраженности в нем личной позиции писателя в индивидуальном порядке и избегать неоправданных обобщений. Другим немаловажным обстоятельством при источниковедческом изучении ТЕВ является характеристика аудитории журнала: «подписчиками по обязанности являлись приходы, духовные училища, монастырские библиотеки, братства, а также ряд губернских и земских учреждений»; тираж ведомостей «обычно равнялся числу приходов плюс еще сто экземпляров» [11. С. 180-181]. Тираж ТЕВ доходил до 600 экземпляров, полностью расходившихся по церковным причтам, не считая примерно 20 экземпляров, оставляемых в редакции для обмена или даровой рассылки [15. С. 410]. По словам А.А. Валитова, частные лица на ТЕВ вообще не подписывались [14. С. 51]; это соответствует замечанию из статьи одного автора «Минских епархиальных ведомостей» за 1906 г. о том, что миряне не только не читают это издание, но часто и не знают о его существовании [12. С. 145]. Ведомости были рассчитанына духовенство, а не на мирян; духовенство могло выступать в качестве посредника между содержанием журнала и своими прихожанами. Указанные выше обстоятельства происхождения и бытования публицистических текстов из ТЕВ имеют важное значение для их источниковедческого анализа: направление и тематика статей определялись утвержденной программой издания, все материалы проходили контроль цензуры (каждый номер содержал помету «дозволено цензурою») и отбор в редакции, что практически исключало появление оппозиционных официальному мнений. Это обусловливает необходимость с осторожностью делать общие выводы о «состоянии умов», о господствующих в среде духовенства идеях и наиболее обсуждаемых проблемах. Как указывает С.Л. Фирсов, церковные власти стремились «не допустить двусмысленного понимания официальных распоряжений и нарушения “христианского спокойствия”» [55. С. 271]. Кроме того, К.Е. Нетужилов отмечает склонность епархиальных изданий «уходить от обсуждения волновавших околоцерковную общественность проблем» как от «опасного смутьянства» [11. С. 180]. Епархиальные ведомости, по словам Н.Н. Морозовой, при освещении политических вопросов транслировали официальную государственную идеологию [23. С. 37]. Особенно яркое выражение этот принцип нашел в верноподданнических статьях к праздничным датам из жизни членов царской семьи [56, 57]. Как заметила Е.Н. Коновалова, только с 1905 г. ТЕВ превратились в издание «острополитического характера», активно критикующее распространенные (антимонархические) теории переустройства общества [17. С. 212]. Действительно, на фоне либерализации режима и обострения политической борьбы после Манифеста 1905 г. в жур- Религиозная публицистика «Тобольских епархиальных ведомостей» 19 нале резко выросло количество статей, посвященных общественно-политическим вопросам [58, 59]. Самым ответственным этапом источниковедческого изучения религиозной публицистики является интерпретация. Свои взгляды церковные публицисты часто выражали не напрямую, а посредством художественных образов и религиозных символов. Например, автор, восторженно принявший Февральский переворот, приравнял «свободу» к «свежему воздуху», подразумевая, что преобразования, ожидаемые после свержения монархии, необходимы, как воздух [60. С. 202]. Другой автор, более критично отнесшийся к новой власти, написал, что «воздух свободы... пьянит... как крепкое вино», тем самым уподобив свободу вину - опасной и вредной страсти, имеющей тяжелые социальные последствия [61. С. 237]. Картина «дней холодного ужаса, зимней, темной, заполненной анархически, стихийно-порывистой бурей ночи» [62. С. 632] - характерный пример публицистической образности, нуждающейся в расшифровке: стихия - подразумеваются анархия, разгул народа, массовый выход за рамки прежних повседневных правил, холод - жестокость, отчуждение между людьми, темнота - противопоставление «свету», идеалам христианства, ночь и буря - социальный и военный кризис. Следует учитывать, что подобное истолкование не может претендовать на полную объективность: скорее всего, сами авторы не анализировали каждый использованный образ, интуитивно понятный им, - при этом уже читатели 1917 г. могли вкладывать разные смыслы в понятия «тьма», «анархия», «упадок» и пр. Образность, широкое использование средств художественной выразительности выполняют функцию эмоционального воздействия на читателя. Характерная черта церковной публицистики - ее обращение прежде всего к чувствам, а не к рассудку читателя, к «духовным», а не «материальным» вопросам. Неслучайно на страницах журнала нашла место формула «оскорбление религиозного чувства» - в связи с «неподобающим» изображением Христа в фильме [63] или обыском патриарха советскими органами власти [64]. Особой выразительностью отличаются образы России, приведенные публицистами на фоне событий 1917 г. Россия как место проживания народов крайне редко изображалась в качестве формального государственного механизма: она одушевлялась, наделялась антропоморфными признаками, представала в текстах как живое тело - чаще всего женское. Россия в глазах протоиерея И. Восторгова - женщина, которая «обнажена», «раздета», «повержена», «опозорена», «осуждена», «окружена палачами и злобствующими врагами» [65. С. 556]. Для автора статьи «Ужас молчания» Россия - страдающая женщина, которой угрожает «меч Вильгельма-насильника»; она плачет, «изболелась от горя» [62. С. 632]. Публицист в данном случае апеллировал к традиционному гендерному стереотипу мужского «долга» ограждать «свою» женщину от посягательств «чужого» мужчины (защищать свою страну от «меча» насильника-захватчика). Евг. Кондратьев уподобил Россию 1917 г. роженице, страдающей от тяжелых родов [66. С. 460]; А. Егоров - матери («мать родная» Родина) [67]. Кроме того, среди духовенства одним из основополагающих было стремление опереться на авторитеты прошлого, найти ответы в созданных ранее текстах или произошедших ранее событиях, а не предложить «авторские» варианты. Почти каждый автор считал своим долгом подтвердить свою позицию, процитировав текст Библии или слова выдающихся богословов. Реже встречаются попытки привести аргументы из истории (всемирной или отечественной) или сослаться на «опыт предков». Е.А. Кожемякин отметил, что обладание авторитетом обусловливается «наличием пережитого мистического опыта» и безоговорочной религиозной верой, причем высшим авторитетом наделяется не человек, а сакральный текст [6. С. 40]. Еще одним типом аргументации, вошедшим в церковную публицистику во второй половине XIX -начале XX в., является объяснение событий через заимствование элементов из современных авторам социальных учений (с использованием терминов «капитал», «капитализм», «буржуазия», «классовые интересы», «демократизм» и др.) и естественных наук. Эти теории преломляются сквозь призму христианского миропонимания: «.служители Церкви не могут облачаться ни в нарядные пиджаки демократизма, ни в компрометированные фраки буржуазии» [68], приход как «народная община самого демократического типа» [69], духовенство стремится быть «демократичным» и избегать репутации «слуг буржуазии» [70]. В подобных случаях остро стоит проблема интерпретации авторских мыслей: кого именно автор относит к буржуазии? перед кем и чем именно, с его точки зрения, она себя «компрометировала»? это проявление «политической моды» революционного времени или же действительное авторское представление о социальных процессах? Религиозный текст интертекстуален (содержательно связан с предшествующими текстами и в целом с культурным контекстом эпохи), что проявляется в форме цитирования, аллюзий (намеков на известные факты), реминисценций (включения в авторский текст хорошо узнаваемых фрагментов чужого текста без упоминания их происхождения) [9. С. 269]. Цитаты из библейского корпуса и авторитетных богословских трудов выполняют функции аргументации и создания образности, смыслообразующую, эстетическую, оценочную и др. [Там же]. Соответственно, исследователь должен погружаться в пространство скрытых смыслов, «расшифровывать» авторские намеки, устанавливать связи между фрагментами сакральных текстов (прежде всего Библии) и проблематикой статей. Сложность интерпретации религиозной публицистики обусловлена также необходимостью перевода на рациональный научный язык иррациональных религиозных рассуждений, которые отличаются высокой степенью эмоциональности, метафоричности, символичности, многозначности. Решить проблему понимания текста помогают филологические разработки в теории «религиозного дискурса», а также герменевтический метод. В завершение обратимся к проблеме верификации как одной из базовых задач источниковедческого анализа. В целом публицистические материалы ТЕВ с высокой степенью достоверности отражают, во-первых, А.А. Бушуева, Т.В. Козельчук 20 ментальность духовного сословия (прежде всего его интеллектуальной элиты - авторов текстов), во-вторых, официальную позицию РПЦ по многим вопросам, в-третьих, набор наиболее дискуссионных тем и серьезных вызовов, стоявших перед церковью в конце XIX -начале XX в. Например, тема успехов, угроз и пределов научного знания, дарвинизм, атеизм, сексуальная эмансипация, революция 1917 г. и пр. Однако следует учитывать ограничения, налагаемые как обстоятельствами бытования источника (ограничения официальной церковной идеологии, наличие цензуры, ориентация на читателей из духовенства, а не мирян), так и жанром. Ряд тематических подборок - по мемориали-зации умерших в некрологах, по внешней политике (строго в официальном духе до 1917 г.) и некоторым другим темам - содержит откорректированную и даже недостоверную информацию. Например, авторы некрологов целенаправленно избегали упоминаний о негативных чертах личности умершего, создавая образ добродетельного и ретивого служителя веры [71]. Цели и обстоятельства создания данного источника во многом снимают проблему верификации, точнее, сводят ее к необходимому минимуму - проверке достоверности отдельных упоминаемых авторами фактов. Таким образом, религиозная публицистика - это разновидность исторических источников, характеризующаяся определенными особенностями фигуры автора (религиозное мировоззрение, в большинстве случаев - включенность в соответствующую социальную группу), спецификой содержания, заданными религиозной традицией темами, подходами и истолкованием фактов, заведомо иррациональным (религиозным) предметом осмысления и стилем произведения (интертекстуальность, символизм, эмоциональность), а также часто - обстоятельствами публикации (под цензурой представителей церкви, с ориентацией на православную аудиторию). Религиозная публицистика, представленная в ТЕВ, обладает рядом источниковедческих особенностей - жанровых, функциональных, содержательных, связанных с обстоятельствами происхождения и прочих, которые определяют, в свою очередь, проблемы ее источниковедческого изучения. Среди таковых можно обозначить комплекс проблем, связанных с происхождением изучаемых текстов. Однако одной из наиболее сложных является задача интерпретации церковно-публицистических текстов. Сложность ее обусловлена необходимос
Ключевые слова
религиозная публицистика,
Тобольские епархиальные ведомости,
исторический источник,
история Сибири,
Русская православная церковьАвторы
| Бушуева Анна Андреевна | Курганский государственный университет | аспирант | mizuki_arashi@mail.ru |
| Козельчук Татьяна Валентиновна | Курганский государственный университет | кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой «История и документоведение» | netanja-k@mail.ru |
Всего: 2
Ссылки
Позднякова Е.Г. Церковная журналистика: история и современность. Курган : Изд-во Курган. гос. ун-та, 2010. 76 с.
Жолудь Р.В. Начало православной публицистики. Библия, апологеты, византийцы. Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2002. 192 с.
Мечковская Н.Б. Язык и религия. М. : ФАИР, 1998. 352 с.
Бобырева Е.В. Эмоциональный аспект коммуникативной компетенции в религиозном дискурсе // Известия Волгоградского государственно го педагогического университета. 2014. № 10 (95). С. 23-30.
Бобырева Е.В. Религиозный дискурс: ценности и жанры // Знание. Понимание. Умение. 2008. № 1. С. 162-167.
Кожемякин Е.А. Религиозный дискурс: методология исследования // Научные ведомости Белгородского государственного университета. 2011. № 2 (97). С. 32-47.
Стаценко А.С. Православный дискурс: к постановке проблемы // Вестник Адыгейского государственного университета. 2014. № 3 (145). С. 75-78.
Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград : Перемена, 2002. С. 221-230.
Смолина А.Н., Лубкина О.А. Интертекстуальность как стилевая черта церковно-религиозных текстов // Мир науки, культуры, образования. 2012. № 5. С. 268-270.
Ясиновская Е.Г. О специфике религиозного дискурса // Вестник Московского государственного лингвистического университета. 2011. № 616. С. 179-186.
Нетужилов К.Е. Епархиальная периодическая печать в дореволюционной России // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2006. № 21. С. 174-182.
Нетужилов К.Е. Церковная периодическая печать в России XIX столетия. СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. 268 с.
Верещагин И.Ф. Церковно-епархиальная периодическая печать в общественной жизни российской провинции во второй половине XIX -начале XX века (на материалах Европейского Севера России) : автореф. дис.. канд. ист. наук. Архангельск, 2013. 24 с.
Валитов А.А. История Тобольских епархиальных ведомостей // Труды Тобольской Духовной семинарии. Тобольск : Тобольская духовная семинария, 2011. Вып. 2. С. 48-56.
Валитов А.А. Тобольские епархиальные ведомости как источник по истории Западной Сибири // Вестник Оренбургской духовной семинарии. 2015. Вып. 2 (4). С. 407-416.
Андреева А.А., Петрова О.А. Издание религиозной литературы и епархиальных ведомостей в Тобольской губернии // Студопедия. URL: http://studopedia.su/14_97276_izdanie-religioznoy-literaturi-i-eparhialnih-vedomostey-v-tobolskoy-gubemii.html (дата обращения: 10.04.2017).
Коновалова Е.Н. Книга Тобольской губернии. 1790-1917 гг. : сводный каталог местных изданий. Новосибирск : Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук, 2006. С. 202-213.
Цысь О.П. Православные общественно-религиозные организации Тобольской епархии во второй половине XIX - начале XX вв. Нижневартовск : Изд-во Нижневарт. гуманит. ун-та, 2008. 277 с.
Стрелкова О.С. Жанр проповеди для сельского населения на страницах «Курских епархиальных ведомостей» // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2011. № 2 (18). С. 134-141.
Стрелкова О.С. Жанр рассказа о чудесах на страницах курской духовной периодики XIX - начала XX вв. // Ученые записки Орловского государственного университета. 2011. № 6. С. 253-259.
Лысенко Н.А. Идеал сибирского священника-миссионера в официальных периодических изданиях русской православной церкви второй половины XIX- начала XX в. : дис.. канд. ист. наук. Новосибирск, 2014. 222 с.
Васильева А.В. Социокультурный облик православного духовенства в Западной Сибири в конце XIX начале XX вв. : дис.. канд. ист. наук. Омск, 2015. 261 с.
Морозова Н.Н. Освещение политических вопросов в «Тобольских епархиальных ведомостях» (1882-1905 гг.) // Гуманитарные науки в Сибири. 2012. № 3. С. 35-38.
Воронцова И.В. Роль и место церковной публицистики 2-й половины XIX в. в модернизации традиционного религиозного сознания в России // Исследования по истории русской мысли : ежегодник за 2012-2014 гг. М. : Модест Колеров, 2015. С. 164-190.
Тобольские губернские ведомости. 1896. № 12.
Шевцов В.В. Правительственная периодическая печать Сибири (вторая половина XIX начало XX века). Томск : Изд-во Том. ун-та, 2016. 622 с.
Мандрика Ю.Л. Тайна «Губернских ведомостей»: к истории первых повременных изданий российской провинции (1857-1917 гг.) // Библиосфера. 2012. № 2. С. 9-14.
Лепилкина О.И. Становление и типологические характеристики епархиальных ведомостей в XIX начале XX вв. // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. 2009. № 2. С. 103-107.
Плавская Е.В. Публицистика как вид исторических источников: проблема определения // Вестник Российского государственного гуманитарного университета. 2008. № 4. С. 81-93.
Каминский П.П. Принципы исследования публицистики на современном этапе // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2007. № 1. С. 97-105.
Кузнецова Н.В., Трофимова О.В. Публицистический текст. Лингвистический анализ. М. : Флинта ; Наука, 2010. 304 с.
О.К. Смотритель Тобольского духовного мужского Училища, священник о. Алексей Беллавин // Тобольские епархиальные ведомости (ТЕВ). 1895. № 17, отд. неофиц. С. 284-293.
К-пов В. Освящение новой часовни в селе Шатровском, Ялуторовского округа // ТЕВ. 1894. № 1, отд. неофиц. С. 5-8.
Горизонтов Ам. Освящение храма при селе Бутаковском, Тарского округа // ТЕВ. 1895. № 2, отд. неофиц. С. 37-38.
Де-Карлино Н. О явлениях, предшествующих смерти, и признаках мнимой и действительной смерти // ТЕВ. 1894. № 16, отд. неофиц. С. 284-293.
О борьбе с кобылкой в Тобольской губернии // ТЕВ. 1894. № 7-8, отд. неофиц. С. 92-102.
Тертычный А.А. Жанры периодической печати : учеб. пособие // EVARTIST. URL: http://evartist.narod.ru/text2/01.htm (дата обращения: 10.05.2017).
Гончар М.И. Некролог как специфический источник изучения жизнедеятельности личности (на материалах «Подольских епархиальных ведомостей») // Global international scientific analytical project. URL: http://gisap.eu/ru/node/49957 (дата обращения: 15.05.2017).
Урванцева Н.Г. Жанр некролога в «Епархиальных ведомостях» XIX - начала XX в. (на примере журнала «Олонецкие епархиальные ведомости») // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2015. № 6 (48). С. 156-158.
Волков Иоанн : некролог // ТЕВ. 1894. № 1, отд. неофиц. С. 8-10.
Г.А. Некролог // ТЕВ. 1904. № 7, отд. неофиц. С. 111-114.
Арефьев В. Беседа со старообрядцами о том, что общество их не может именоваться церковью, как неимеющее полноты таинств // Тобольские епархиальные ведомости. 1884. № 9, отд. неофиц. С. 191-206.
Смирнов В. Присоединение к православной церкви старообрядца Никиты Ямова // ТЕВ. 1895. № 9, отд. неофиц. С. 165-170.
Скородумов М., Шалабанов А. Как я избежал сетей раскола? // ТЕВ. 1895. № 15, отд. неофиц. С. 262-268.
Разбор данного старообрядцем Иоанном Журавлевым ответа на вопрос православного миссионера свящ. о. Н. Богословского // ТЕВ. 1895. № 2, отд. неофиц. С. 21-33.
Лебедев М. Поучение при погребении секретаря Консистории С.И. Никольского // ТЕВ. 1884. № 2, отд. неофиц. С. 42-45.
Ивановский В. К вопросу о времени учреждения в христианской церкви церковной иерархии // ТЕВ. 1894. № 9, отд. неофиц. С. 103117.
Богословский Н. Поучение на день Покрова Пресвятой Богородицы // ТЕВ. 1903. № 19, отд. неофиц. С. 472-474.
Догматические и нравственные уроки, заимствованные из житий святых // ТЕВ. 1892. № 3-4, отд. неофиц. С. 57-68.
Антоний, еп. Тобольский и Сибирский. О средствах к борьбе с малакиею и с хульными и нечистыми помыслами // ТЕВ. 1905. № 12, отд. неофиц. С. 153-163.
Слово в неделю блудного сына // ТЕВ. 1898. № 2, отд. неофиц. С. 25-30.
Богдановский А.Е. Основные положение христианской морали, наука и жизнь // ТЕВ. 1898. № 10, отд. неофиц. С. 257-276.
Антоний, еп. Тобольский и Сибирский. Поучение, произнесенное за вечерней Великого Пятка после выноса плащаницы в Тобольском кафедральном соборе 15 апреля 1905 г. // ТЕВ. 1905. № 10, отд. неофиц. С. 109-113.
Поникаровский Н., Памфилов Ф., Богословский Н. Речи, произнесенные при гробе смотрителя Тобольского духовного училища, священника Алексея Беллавина // ТЕВ. 1895. № 16, отд. неофиц. С. 269-275.
Фирсов С.Л. Церковь в империи : очерки из церковной истории эпохи императора Николая II. СПб. : Сатисъ ; Держава, 2007. 464 с.
С. М. Л. Годовщина Священного Коронования Государя Императора Александра III // ТЕВ. 1884. № 10, отд. неофиц. С. 215-218.
Пр. П. Г. Слово в день коронования государя императора Николая Александровича // ТЕВ. 1897. № 15, отд. неофиц. С. 323-327.
Тихомиров Н. Поучение по прочтении Высочайшего Манифеста 17 Октября 1905 года о даровании русскому народу прав гражданской свободы // ТЕВ. 1906. № 1, отд. неофиц. С. 1-3.
Матвеев Д. Отношение духовенства к современным политическим партиям // ТЕВ. 1906. № 6, отд. неофиц. С. 103-106.
Гражданин-священник. Из летописи церкви Успения Б. Матери // ТЕВ. 1917. № 13, отд. неофиц. С. 199-202.
Время не прав, но обязанностей // ТЕВ. 1917. № 16, отд. неофиц. С. 237-238.
Ужас молчания // ТЕВ. 1917. № 45, отд. неофиц. С. 631-632.
Кощунство // ТЕВ. 1917. № 21, отд. неофиц. С. 305-306.
Н. А. Ч. Обзор гражданских и церковных событий минувшего года (продолжение) // ТЕВ. 1918. № 6, отд. неофиц. С. 59.
Восторгов И., протоиерей. Предкрестие // ТЕВ. 1917. № 40, отд. неофиц. С. 554-556.
Кондратьев Евг., протоиерей. Долг любви // ТЕВ. 1917. № 32, отд. неофиц. С. 460-461.
Егоров Алексий, священник. Страдающей Родине // ТЕВ. 1917. № 43, отд. неофиц. С. 597.
О беспартийности православного духовенства // ТЕВ. 1917. № 25, отд. неофиц. С. 346-348.
Борьба за религиозное мировоззрение // ТЕВ. 1917. № 27, отд. неофиц. С. 368.
Отношение духовенства Казанской епархии к переживаемым событиям Русской государственной жизни // ТЕВ. 1917. № 21, отд. неофиц. С. 303.
Беллавин А., смотритель Тобольского духовного мужского училища // ТЕВ. 1895. № 17. С. 284-293.
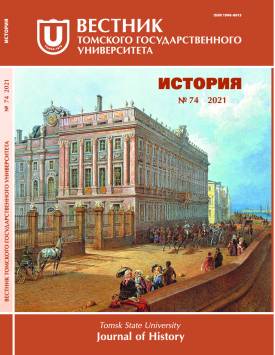

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью