Рассмотрены особенности становления общеобразовательной школы в районах БАМа в 19701980-е гг. По архивным документам и воспоминаниям современников проанализированы процессы строительства, материально-технического и кадрового обеспечения учебных заведений. Выявлены причины отставания в возведении школ, особенности организации учебной и внеклассной работы. Описаны социально-бытовые условия жизни учителей, а также иные факторы, формировавшие трудовую повседневность педагогов новых городских поселений. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
School education system in the Baikal-Amur Mainline construction regions (1970-1980s).pdf Исторический опыт формирования городских поселений в районах нового промышленного освоения свидетельствует, что общеобразовательные школы всегда выполняли важную градообразующую функцию. В условиях географической удаленности от развитых индустриальных центров, сурового климата, слаборазвитой транспортной и социальной инфраструктуры школы представляли собой не только образовательные учреждения, но и центры общественно-политической и культурной жизни местных сообществ. До сих пор в сознании обывателя представление о значимости населенного пункта выстраивается из знаний о наличии / количестве находящихся в нем школ. Современная историография школьного образования позднесоветского периода содержит большое количество работ, в разной степени охватывающих сибирские и дальневосточные регионы. Наиболее тщательно исследованы школы нефтегазодобывающих районов Западной Сибири. [1-3]. Частично проблемы школьного образования освещались в работах по истории социальнобытового развития молодых сибирских городов [4-6], а также в обобщающих трудах по формированию новых территориально-производственных комплексов Сибири [7, 8]. В данной работе рассматриваются основные аспекты становления и развития системы школьного образования в районах строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ) в 1970-1980-е гг. Методологическая база исследования лежит в области пересечения нескольких направлений современной историографии, прежде всего истории повседневности, устной истории, теории нарративной памяти. Проведенные в районах западного участка БАМа полуструктурированные интервью с учителями и выпускниками бамовских школ, а также с бывшими чиновниками муниципальных отделов образования позволили реконструировать сложный и многогранный процесс формирования школ в районах всесоюзной стройки из антропологической и микроисторической перспектив. Наряду с личными свидетельствами эмпирическую основу работы составили фонды центральных (РГАЭ, РГАСПИ), региональных (ГАИО, ГАРБ, ГАЗК) и местных архивов. При анализе источников автор опирался на теорию «перформативного сдвига» А. Юрча-ка, а также на вырастающий из нее тезис о высоком потенциале диверсификации позднесоветского школьного образования. Строительство БАМа стало одним из наиболее крупных проектов позднего социализма, призванным укрепить ослабевший энтузиазм советских граждан и направить их социальную энергию на внутренние новации. Основной объем работ по сооружению магистрали пришелся на 1974-1989 гг., когда БАМ был провозглашен всесоюзной ударной комсомольской стройкой. По замыслу проектировщиков, новая магистраль должна была разгрузить Транссиб, сократить расстояние транзитных грузоперевозок к тихоокеанским портам, а также открыть доступ к минерально -сырьевым базам северных территорий страны. При районировании БАМа, выполненном учеными ИЭОПП СО АН СССР, было выделено три основных участка строительства - западный, центральный и восточный. Западный участок, в свою очередь, проходил через территории Иркутской области (Усть-Кутский и Каза-чинско-Ленский районы), Бурятской АССР (СевероБайкальский и Баунтовский районы), Читинской области (Каларский район), Якутской АССР (Нерюнгрин-ский район). С первых лет ударная комсомольская стройка привлекала трудовых мигрантов со всех концов СССР. По оценкам экспертов, за полтора десятилетия только на западном участке побывало 1,5-2 млн рабочих [9. С. 59]. Планируемая система расселения и культурнобытового обслуживания включала три типа поселений: крупные многофункциональные центры, расположенные за пределами зоны строительства (Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Хабаровск, Владивосток); опорные города, находящиеся непосредственно в зоне БАМа (Усть-Кут, Северобайкальск, Нерюнгри, Тында); опорные центры промышленных узлов и рабочие поселки с численностью 10-15 тыс. человек [10. С. 120]. Однако из-за больших расстояний между населенными пунктами и трудностей в организации транспортного сообщения с развитыми центрами южного индустриального пояса в первоначальную схему были внесены коррективы. В результате все поселения в зоне БАМа можно разделить на следующие группы. В первую очередь это расположенные вдоль трассы «старые» населенные пункты, которые возникли задолго до начала стройки (Усть-Кут, Нижнеангарск). Многие из них получили новый импульс развития и превратились в центры обслуживания магистрали. Другие приобрели временное значение, утраченное после передислокации строителей на другие участки. Ко второй группе относились «новые» поселения, в которых были сосредоточены основные объекты производственной и социальной инфраструктуры стройки (Северобай- Проблемы отечественной истории /Problems of history of Russia 14 кальск, Магистральный, Таксимо, Новая Чара). После окончания строительства они должны были превратиться в центры индустриального освоения региона. Третью группу составляли временные рабочие поселки, создававшиеся на период сооружения какого-либо долгосрочного объекта (например, поселки тоннельщиков Гранитный, Гоуджекит, Тоннельный, Северо-муйск, мостостроителей - Якурим, Витим). Накануне объявления всесоюзной комсомольской стройки районы будущего БАМа располагали немногочисленной и отсталой в материально-техническом отношении сетью школ, не покрывавшей потребности населения. В Усть-Кутском районе Иркутской области функционировало 24 школы на 4 570 мест при общем количестве обучающихся в 7 тыс. человек [11. Д. 155. Л. 35]. В Северо-Байкальском районе Бурятской АССР насчитывалось 10 школ, самыми крупными из которых были средняя и восьмилетняя школы в пос. Нижнеан-гарске общей мощностью 900 мест [12. Д. 143. Л. 3]. Помещения, в которых размещались школы, были построены в послевоенное время и нуждались в капитальном ремонте. Из письма выпускницы Нижнеангарской восьмилетней школы Галины Забегалиной вырисовывается портрет типичного учебного заведения: «Первого сентября 1975 г. я перешагнула порог Нижнеангарской восьмилетней школы. Одноэтажное деревянное здание, коридор и несколько кабинетов с деревянными партами периода всеобщей ликвидации неграмотности и на сотню раз перекрашенными классными досками. В школе было печное отопление. Вся площадь школы была меньше школьного спортзала в улан-удэнской школе № 14» [13. С. 247]. Из-за нехватки школ и дошкольных учреждений строителям негласно запрещалось перевозить с собой семьи. Руководителям строительных предприятий предписывалось не принимать рабочих с детьми. В результате сложилась неформальная практика перевозить свои семьи после трудоустройства и получения прописки, которая, в свою очередь, давала право встать в очередь на жилье [14. С. 1010]. Таким образом, уже в первый год на стройке появились дети, часть которых была вынуждена провести зиму в палатках. Форсированное наращивание мощностей существующих школ достигалось за счет реорганизации начальных школ в средние, переуплотнения классов, сооружения дополнительных корпусов. Рассчитанная на 320 мест Усть-Кутская средняя школа была вынуждена вместить 964 ученика [11. Д. 170. Л. 23]. Нижнеангарские школы уже в сентябре 1975 г. увеличили число своих учащихся более чем на 400 ребят [15. С. 151]. Местные школы были не в состоянии принять всех нуждающихся не только из-за недостатка учебных площадей, но из-за невозможности транспортировки детей со стройучастков. Поэтому во временных поселках строителей стали создаваться собственные «ба-мовские» школы. Инициатива по их организации часто исходила от руководителей строительных предприятий. Учитель средней школы пос. Магистрального вспоминает: «Начальник поезда здесь был Коротнев Анатолий Константинович, легенда наша, вот он, поскольку у него дочка и сын подрастали, организовал небольшой класс. В него записались пять человек -детей инженерно-технических работников. Школу разместили в приспособленном щитовом здании. Но она начала работать не с первого сентября, а когда уже родители стали подъезжать с детьми, где-то в ноябре семьдесят четвертого года»1. При этом в проекте организации строительства возведение школ для транспортных строителей не предусматривалось. Все работы осуществлялись собственными силами трестов и управлений, носили внеплановый характер и финансировались из отведенного на временные здания и сооружения лимита в размере 15% от сметной стоимости основного объекта. Анализ существующей документации показал, что при выборе типовых проектов зданий временных школ сколько-нибудь серьезных расчетов по оценке и прогнозу роста / сокращения численности населения, рождаемости или миграционной активности не проводилось. Новые школы возникали стихийно, по мере продвижения рабочих с запада на восток и развертывания базовых поселков строительных организаций. Первой на западном участке БАМа стала школа пос. Звездного проектной мощностью в 320 мест. На момент открытия 2 сентября 1974 г. в нее поступили всего 42 ученика. Однако уже к концу учебного года контингент учащихся вырос в пять раз [16. Д. 4. Л. 89-90]. В течение 1975-1976 гг. школы были устроены во всех ба-мовских поселках иркутского, а также в нескольких пунктах бурятского участка стройки, включая Магистральный, Улькан, Северобайкальск, Новый Уоян и Тоннельный. В большинстве случаев школа открывалась вместе с организацией нового поселка. Исключением стал Северомуйск, где запуск школы запоздал на два с половиной года. В течение этого времени детей ежедневно доставляли на учебу на рабочем транспорте в пос. Тоннельный, расположенный у западного портала Северо-Муйского хребта [17. Д. 6. Л. 18-19]. Нередко из-за имевшихся недоделок официальное открытие школы могло произойти и через год после фактического начала работы. Относительно высокие темпы создания школ объяснялись тем, что здания возводились во временном исполнении с использованием непросушенного леса и сборно-щитовых конструкций. Уже в первые годы эксплуатации было обнаружено много брака, о чем директора школ регулярно сообщали властям. Претензии нередко высказывались к остеклению окон и навешиванию дверей, которые в школьных архивах называют не иначе как «бутафорные двери». Неутепленные и плохо подогнанные полы закрывались линолеумом, который быстро приходил в негодность [18. Д. 516. Л. 131]. В последнюю очередь, в 1980-1981 гг., были сданы школы на читинском и якутском участках трассы (Икабья, Куанда, Леприндо, Новая Чара, Сюльбан, Кодар и Хани). Всего за первые пять лет вдоль западного БАМа было построено более 20 общеобразовательных школ, что при имевшихся темпах роста населения не покрывало и половины потребности [19. Д. 3825. Л. 88-109]. Минпрос РСФСР не принимал на баланс расположенные во времянках бамовские школы, поэтому их Байкалов Н.С. Формирование системы школьного образования в районах строительства БАМа 15 содержание возлагалось на базовые предприятия. С завершением строительных работ временные поселки планировалось заменить постоянными, в которых должны были разместиться общеобразовательные школы территориального и ведомственного подчинения. Строительство первых осуществлялось силами генподрядных трестов и рассматривалось как «помощь» местному образованию. Железнодорожные школы входили в проекты эксплуатационных поселков, в возведении которых были заняты шефские организации из 13 союзных республик и 22 автономных единиц РСФСР [20. C. 11]. К концу 1970-х гг. лимит на сооружение гражданских объектов во временном исполнении был исчерпан. Например, по бурятскому участку было освоено 70 из 72 млн руб., выделенных на «времянку» [21. Д. 2. Л. 224-225]. В то же время проведенные Минтранс-строем проверки показали, что строительство постоянных зданий для школ почти не осуществлялось. В 1979 г. на иркутском участке из пяти предусмотренных проектом капитальных школ мощностью 2 336 мест было начато только одно здание в пос. Звездном [19. Д. 2941. Л. 120-126]. Аналогичным образом складывалась ситуация и на бурятском участке, где шефы приступили к сооружению постоянных поселков только в 1982 г., и в результате вплоть до 1984 г. там не было построено ни одного капитального школьного здания. В качестве причин сложившейся ситуации строители называли отсутствие генпланов постоянных поселков, серьезные недоработки в типовых проектах зданий и частые корректировки проектно-сметной документации, «некомплексность» застройки с отставанием в возведении инженерных сетей, распыление ресурсов на разные объекты, приоритетное финансирование основной программы строительства, связанной с укладкой железнодорожного пути. Кроме того, существовали проблемы с объемами и качеством поставляемых стройматериалов. Например, в Северобай-кальске по ПМК «ЛенинградБАМстрой» плановые поставки кирпича и цемента составляли 24%, железобетонных изделий - 72%. Из-за задержки запуска Шимановского комбината Г лавленинградстрой вынужден был завозить комплектующие непосредственно из Ленинграда с пятью перевалочными пунктами, что отрицательно сказывалось на сохранности изделий [Там же. Д. 3392. Л. 128-135]. Депутаты районных и городских советов постоянно критиковали строительные организации за срывы планов ввода учебных заведений. На одной из сессий депутаты Усть-Кутского горсовета с раздражением отмечали, что за весь период сооружения БАМа городская сеть образования пополнилась двумя пристроями к школам. При этом более 2/3 учащихся города составляли дети бамовцев. В то же время строители возвели капитальные многоэтажные здания для размещения офисов трестов «ЗапБАМстроймеханизация», «ЛенаБАМстрой», СМП-286 и прочих подразделений общей стоимостью в 2,5 млн руб. «На такие деньги и материалы можно было построить столько детских учреждений, что не было бы сегодняшнего ужасного переполнения школ, отсутствия мест в детских садах, не загоняли бы подростков в подвалы», - отмечал в своем докладе председатель горсовета [11. Д. 513. Л. 44-46]. До начала комсомольской стройки в районах будущего БАМа имелась только одна железнодорожная школа № 98 станции Лена (Усть-Кут). В 1979 г. рабочими «СтавропольБАМстроя» был введен в эксплуатацию новый трехэтажный корпус школы мощностью 1 124 места. После учреждения в октябре 1980 г. Байкало-Амурской железной дороги начинает разворачиваться ведомственная школьная сеть МПС. Были открыты школы на станциях Северобайкальск (1981), Ния (1982), Улькан (1983), Звездная, Киренга и Ку-нерма (1984), Новый Уоян (1986), Кичера и Ангоя (1987), Икабья и Хани (1988), Таксимо и Новая Чара (1989) [22. Л. 1-2]. В отличие от школ Минтрансстроя, возводимых исключительно по типовым проектам временных зданий, учебные заведения железнодорожников представляли постройки, выполненные в постоянном исполнении. Межведомственная разобщенность отрицательно сказывалась на развитии местного образования. Показателен в этом смысле пример пос. Улькана, где на смену зданию временной средней школы № 1 Минтранс-строй и МПС запланировали построить две капитальных школы, причем мощность каждой ограничивалась примерной оценкой численности «своего» контингента. Проект МПС предусматривал возведение восьмилетней школы с небольшими классными комнатами вместимостью 20 учеников каждая. Обучение старшеклассников должно было проходить в средней школе № 22 станции Киренга (Магистральный), расположенной в 45 км от Улькана. В ситуацию попыталась вмещаться местная власть. Председатель Ульканского поссовета А.Т. Бурлаков обратился в комиссию Госстроя СССР с предложением построить в поселке одну «полноценную» школу. Не добившись положительного решения, он опубликовал статью с заголовком «Еще не поздно» в журнале «Советы народных депутатов», в которой писал: «Мы не можем допустить раздробление средств на строительство и содержание нескольких школ в поселке, имеющем население немногим более 6 000 жителей и учащихся более 1 100 человек» [23. Д. 434. Л. 144-145]. Однако все усилия были напрасными, и в Улькане были построены две маломощных школы, после ликвидации отделения БАМЖД объединившихся в одну среднюю школу № 2. Бывший глава районной администрации вспоминает: «Мы предлагали в свое время объединить усилия и построить одну большую школу, с хорошим спортзалом, классами, бассейном. Но ведомства уперлись рогами в землю, у каждого же свои фонды, зачем отдавать кому-то... Потом уж, когда я стал во власти работать, понял, что просто надо было выходить на председателя правительства (председателя Совета министров СССР. - Н.Б.) и его убеждать»2. В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР № 651 «О мерах по дальнейшему строительству БАМ» от 12 июля 1985 г. технические проекты отдельных участков по объемам непроизводственного строительства были скорректированы. Сметная стоимость социальных объектов возросла на 106,7% Проблемы отечественной истории /Problems of history of Russia 16 и составила 86 млн руб. По уточненным проектам предусматривался ввод в эксплуатацию школ на 24,7 тыс. мест, что превышало первоначальные лимиты на 7,9%. Однако нарастание кризисных явлений в экономике страны привело, напротив, к сокращению инвестиций. В 1986 г. сооружение социальных объектов было профинансировано на 83,3%, в 1987 г. - на 92,3% [19. Д. 7000. Л. 10]. Завершение запланированных зданий ежегодно переносилось, пока с распадом советского государства строительная программа БАМа не была окончательно свернута. В результате средняя обеспеченность населения школами в поселках западного участка колебалась в пределах 50-65% к нормативу [24. Д. 2. Л. 11]. Нехватка учебных площадей стала одной из центральных проблем школ новых городских поселений. Переуплотненность наблюдалась во всех учебных заведениях вне зависимости от ведомственной принадлежности. В 1979-1980 учебном году в Северобайкальской школе № 2 обучались 985 учеников вместо планируемых 560, в Звезднинской - 410 вместо 320, в Магистральнинской - 1 073 вместо 392, в Улькан-ской - 1 213 вместо 692, в Новоуоянской - 740 вместо 320, в Северомуйской - 1 200 вместо 820 [23. Д. 434. Л. 151; 25. Д. 487. Л. 135]. Проблему с местами не удалось решить вплоть до сдачи магистрали в постоянную эксплуатацию. В 1989 г. в Усть-Куте на 5 592 посадочных места в школах приходилось 10 886 учащихся, в Северобайкальске на 3 516 мест - 5 600 [11. Д. 586. Л. 85-92]. Из-за запаздывания сооружения постоянных поселков учебных площадей не хватало и в ведомственной сети. Например, рассчитанная на 1 070 учеников средняя школа № 98 станции Лена фактически вмещала 1 800 человек [Там же. Д. 513. Л. 44-46]. Хронический дефицит учебных мест школы старались компенсировать работой в три смены, проведением занятий в непредназначенных для учебы помещениях (столовые, спортзалы, подсобные комнаты), отказом от работы кружков и групп продленного дня. Например, в Звезднинской средней школе учебные занятия проводились с 7 до 23 часов. Уроки физкультуры были перенесены в коридоры здания, а от трудового обучения, «продленки», внеклассной работы пришлось полностью отказаться [16. Д. 4. Л. 40]. В нескольких школах читинского участка стройки детей в классах сажали по три человека за одну парту [18. Д. 516. Л. 128]. В Северобайкальской школе № 3 занятия двух классов проводились в спортзале. Из-за нехватки мест во многих учебных заведениях отсутствовали помещения для учительских, библиотек, мастерских и т.д. Еще одной трудновыполнимой задачей школьного руководства являлось поддержание в помещениях нормального температурного режима в холодное время года. Архивные документы свидетельствуют, что во многих корпусах температура не превышала 10-15°С. Дети вынуждены были сидеть на занятиях в верхней одежде. Например, в Звезднинской средней школе в первый год работы максимальная температура в 16°С продержалась только три дня, все остальное время приходилось обучаться при 5-9°С. В результате проведенного медосмотра 80 из 220 учащихся «нуждались в немедленном лечении» [16. Д. 4. Л. 89-90]. Нарушения температурного режима были вызваны низким качеством строительных материалов, прежде всего использованием непросушенного бруса, конструктивными недостатками сборно-щитовых зданий, которые в народе нередко называли «сборно-щелевыми», частыми повреждениями комплектующих при транспортировке, строительным браком, допущенным при наспех организованном монтаже, и пр. В строящихся поселках отсутствовала централизованная система отопления. Каждый микрорайон отапливался своей локальной котельной, мощности которой обычно не хватало для обслуживания всех, в том числе вновь подключенных объектов. В целях экономии ресурсов отопительный сезон начинался в ноябре и заканчивался в марте, что неприемлемо для районов, приравненных к Крайнему Северу. Аварии на теплосетях в таких условиях превращались в настоящие бедствия для местных жителей. Учитель химии из Нового Уояна, где в зимнее время столбик термометра опускался до -50°С, вспоминает: «В первую зиму система у нас замерзла, детей мы отпустили, а сами дежурили по два часа, размораживали... Выйдешь, возле костра погреешься и назад дежурить. Все же деревянное было, следили, чтобы не случилось пожара. Отогрели классы, и опять занятия пошли»3. Электрообогрев помещений при отсутствии регулярного электроснабжения также не спасал школы и другие учреждения от холода. С низкими температурами школы сталкивались и в 1980-е гг. Вследствие переполненности износ учебных корпусов происходил более быстрыми темпами. В муниципальных бюджетах предусматривались средства на побелку и покраску зданий. Капитальный же ремонт ложился на плечи базовых предприятий, зависел от наличия свободной рабочей силы и строительных материалов, часто осуществлялся несвоевременно и в неполном объеме. Так, в 1980-1981 учебном году в Ульканской средней школе не работала канализация и не отапливался один из корпусов, в Магистральнин-ской - не было произведено остекление окон. В зимнее время занятия в этих двух школах посещали только 50% учащихся [23. Д. 434. Л. 158; Д. 419. Л. 14]. Еще одна характерная черта повседневности ба-мовских школ - перебои в обеспечении учащихся питанием. Поскольку мощностей и ресурсов местной потребкооперации явно не хватало, организация школьного общепита возлагалась на отделы рабочего снабжения строителей (ОРСы). Из-за дефицита площадей, перебоев с водо- и электроснабжением, отсутствия канализации питание детей часто организовывалось за пределами школ, в расположенных поблизости рабочих столовых. Реализация данного подхода была сопряжена с множеством трудностей нормативного, организационного, санитарного характера. Однако для ОРСов такое временное решение было удобным, так как позволяло экономить материальные и трудовые ресурсы. Даже с обустройством собственных школьных столовых и буфетов их работа регулярно прерывалась. Например, в течение 1980 г. горячее питание детей отсутствовало в Северомуйской, Кичерской, Новоуоянской, Тоннельной и Нижнеангарской шко- Байкалов Н.С. Формирование системы школьного образования в районах строительства БАМа 17 лах, т.е. практически вдоль всего бурятского участка стройки [25. Д. 487. Л. 60]. В школьных столовых наблюдалось переуплотнение: по 10-12 человек на одно место. Для обслуживания большого количества учащихся требовалось 12 перемен продолжительностью 15-20 минут, но в условиях двух-и трехсменного режима работы можно было сделать только 8 перерывов по 10 минут каждый. Поэтому учащиеся были вынуждены питаться в спешке, часто стоя. По этой же причине в школах отсутствовала возможность обеспечить диетическое питание, в котором нуждались более половины детей [24. Д. 134. Л. 77]. Школьные столовые на БАМе отличало однообразие рациона, характерное для многих северных регионов и районов нового экономического освоения. В меню отсутствовали свежие овощи и фрукты, натуральные молочные продукты, на что регулярно обращали внимание контролирующие органы. Успешно решить эти проблемы силами собственных подсобных хозяйств в условиях вечномерзлотных грунтов школам не удавалось. Тем не менее образовательные учреждения устраивали свои теплицы, заключали договоры о поставках свежей продукции с местными сельхозпроизводителями. Материально-техническая база новых школ также находилась в неудовлетворительном состоянии. В учебных классах отсутствовали специализированная мебель, учебное оборудование, не хватало учебников, спортивного инвентаря, наглядных пособий. Учитель истории Магистральнинской средней школы вспоминает: «В селе Ермаки почти одновременно с нашей (школой. - Н.Б.) плановая школа сдавалась. Так там все от атласов до штативов было, полный набор карт, набор наглядных таблиц. У нас в Магистральном школа внеплановая, всего не хватало. Сами рисовали карты по истории, слайды на кодоскоп. И такие дорогущие книги шли в библиотеку посылками, а простых учебников не хватало. Проекторы пришли, а диафильмов нет. В отпуск поедешь или в командировку, оттуда привезешь; что-то студенты отправляли или однокурсники с большой земли»1. В большинстве случаев оснащение школ ложилось на плечи самих педагогов. Например, первый директор организованной в 1980 г. Таксимовской средней школы Е.Б. Зуева была вынуждена в течение ряда лет курсировать между поселком, районным и областным центрами, чтобы обеспечить учащихся самым необходимым: «Школа представляла собой щитовое здание из пяти кабинетов. Самодельные деревянные лавки и столы. Отопления не было вплоть до середины ноября. Никаких книг, тетрадей, методичек... Чтобы ликвидировать эту неустроенность, я была вынуждена на перекладных с двумя коробками и рюкзаком за спиной возить грузы. В 1982 г. по Витиму вывезла груз три машины с мебелью. Когда открылась железная дорога, то собственноручно с напарницей загрузили вагон мебели и добрались до места на третьи сутки»4. Выделяемые муниципалитетами средства на закупку инвентаря, оборудования и учебных пособий часто не осваивались из-за исчерпанности лимитов баз прос-снаба и учснаба. Например, анализ бюджета Северо- Байкальского района показал, что остаток средств по данной статье ежегодно составлял от 40 до 60% [25. Д. 487. Л. 59]. Школы пытались решить эти проблемы, обращаясь напрямую к базовым предприятиям. В качестве временного решения строители оснащали подшефные школы неспециализированной мебелью, в том числе произведенной в собственных мастерских. Оригинальный выход нашли в средней школе пос. Леприндо Читинской области, где ребята каждый переносили за собой стулья из класса в класс [18. Д. 516. Л. 128]. В целом неблагоприятные условия обучения приводили к высокой заболеваемости школьников. Проведенное на иркутском участке БАМа обследование показало, что из-за несоответствия санитарным нормам 60% мебели и оборудования у детей наблюдалась прогрессирующая динамика в патологиях опорно-двигательного аппарата. Если среди первоклассников было выявлено 11,5 случаев нарушения осанки на 1 000 учащихся, то среди пятиклассников - уже 108 случаев. Низкая освещенность учебных комнат (20-70 Лк при норме / в 150 Лк) приводила к развитию миопии, которая выявлялась у 78 из 1 000 первоклассников и у 403,4 из 1 000 девятиклассников. Также у детей фиксировался рост хронических заболеваний органов дыхания, почек, желудочно-кишечного тракта. В итоге 20% учащихся освобождалось от занятий физкультурой [11. Д. 586. Л. 85-92]. В целом по стране свыше половины выпускников средних школ имели отклонения в состоянии здоровья. По данным Минздрава СССР, за время обучения с первого по восьмой класс доля детей, страдающих близорукостью, увеличивалась с 3 до 30%, нервно-психическими расстройствами - с 15 до 40% [26. С. 41]. С началом реализации школьной реформы 1984 г. в жизни общеобразовательных учреждений произошли важные изменения. В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об улучшении трудового воспитания, обучения, профессиональной ориентации школьников и организации их общественно полезного, производительного труда» при школах создавались мастерские, кабинеты автодела, подсобные хозяйства, организовывались межшкольные учебно-производственные комбинаты [27. С. 192]. С помощью базовых предприятий школы приобретали оборудование для учебных классов и мастерских. Примером сравнительно успешного сотрудничества школы и производства являлась Звезднинская средняя школа. СМП-266 в школе были оснащены мастерские, подарена теплица. Летом 1984 г. было организовано трудовое школьное лесничество, силами которого за год было посажено лесных культур на 75 га, собрано 350 кг еловой шишки. В ученических производственных бригадах школьники занимались ремонтом мебели и хозяйственного инвентаря, оборудованием спортивных площадок и пр. [16. Д. 104. Л. 99-100]. Однако степень оснащенности общеобразовательных учреждений не стоит переоценивать. Исследователи школьной реформы в Сибири неоднократно обращали внимание на тот факт, что для оснащения кабинетов / и мастерских предприятия выделяли некомплектные машины и оборудование с высокой степенью износа [3. С. 24]. Несмотря на официальные заявления о важ- Проблемы отечественной истории /Problems of history of Russia 18 ности укрепления связи образования с практикой, в педагогическом процессе продолжало преобладать «меловое» обучение. Знакомство школьников с производством предполагало в основном пассивное созерцание, а не самостоятельную работу с приборами, инструментами или машинами [28. С. 206-207]. Из-за нехватки площадей под мастерские и кабинеты ручного труда, недостатка учителей технического труда и мастеров производственного обучения, отсутствия производственных заданий по выполнению заказов предприятий и организаций большинство общеобразовательных учреждений не выполняло программы трудового обучения. В целях «сближения» образования и производства базовые предприятия были обязаны выделять рабочие места для старшеклассников. В силу дислокации строительных предприятий практически в каждом поселке, масштабных инвестиций, доступности и разнообразия строительной техники политехнизация бамовских школ должна была протекать более успешно, чем в других регионах. Однако рабочие допускали школьников к производству крайне неохотно. Сдерживающими факторами выступали высокий производственный травматизм и неудовлетворительное состояние рабочих мест, которое проявлялось в нарушениях норм освещенности, загазованности, температуры, гигиены, а также в нехватке спецодежды и средств индивидуальной защиты [29. С. 233]. Кроме того, постоянная гонка за плановыми показателями, премиями, званиями приводила к форсированию темпов и сроков сдачи объектов, что существенно ограничивало и без того узкую сферу применения детского труда. В итоге организация ученических рабочих мест на предприятиях носила формальный характер. Например, в Улькане из-за нехватки швейных машин в местном доме быта не было организовано практическое обучение швей. Обучавшиеся на базе СМП-571 слесарному делу школьники в течение всего учебного года изучали основы техники безопасности и занимались уборкой мусора на стройучастках [30. Д. 68. Л. 3538]. С похожими проблемами столкнулись учащиеся Кунерминской средней школы, где базовое предприятие СМП-582 вопреки договорным обязательствам сумело организовать рабочие места только по двум профессиям из десяти рекомендованных специальным перечнем [31. Д. 92. Л. 76-80]. С 1 сентября 1986 г. школы начали работать по новым типовым учебным планам, выделялись дополнительные часы на трудовое обучение, этику и психологию семейной жизни, профориентирование и другие дисциплины [32. С. 323-334]. С появлением в программе курса «Основы информатики» остро встал вопрос оснащения кабинетов компьютерной техникой. Во всех школах Усть-Кутского района обучение информатике осуществлялось «на доске» вплоть до 1987 г. В Северобайкальске единственный оснащенный ЭВМ кабинет школы № 6 был организован как межшкольный компьютерный класс. Начавшийся в это время поэтапный переход на обучение детей с шести лет в районах БАМа постоянно откладывался в связи с нехваткой свободных площадей. По нормативам каждому классу-комплекту шестилеток требовалось по три комнаты (учебная, игровая и спальная). Первые две шестилетние группы общим количеством в 60 детей были открыты в Северобайкальской школе № 2 в 1987 г. В Усть-Куте от обучения шестилеток пришлось отказаться вплоть до 1989 г. [11. Д. 438. Л. 83-84]. Изменения коснулись также организационно-управленческой деятельности. В 1988 г. были проведены выборы директоров школ, созданы общественные советы по народному образованию. К работе педсоветов стали привлекать секретарей комитетов комсомола и учко-ма. После объединения инспекторской и методической служб отделов образования школьные администрации стали проверять работу учителей, а инспекторы - контролировать руководство школ [24. Д. 15. Л. 7-8]. В соответствии с инструкциями по оценке поведения, прилежания к учению и общественно-полезному труду старшеклассникам было предоставлено право самостоятельно выставлять оценки за поведение. Был завершен переход школ на бесплатные учебники, увеличены лимиты на приобретение учебного инвентаря и оборудования. Возрос средний расход на одного учащегося: если в 1980 г. он составлял 315, то в 1985 г. -408, а в 1988 - 474 руб. [25. Д 741. Л. 96]. Таким образом, хотя предусмотренные реформой показатели оснащенности общеобразовательных учреждений достигнуты не были, в течение второй половины 1980-х гг. материально-техническая база системы образования существенно укрепилась. Еще одной проблемной областью в функционировании местных школ являлось кадровое обеспечение. К основным формам комплектования штатов относились распределение выпускников после окончания вузов и ссузов, перевод работников из соседних районов (наиболее характерен для начального этапа строительства), вольный наем в результате прибытия на БАМ «по семейным обстоятельствам». Под последним в кадровых отчетах обычно значились случаи переезда женщин-педагогов вслед за мужьями-строителями. Территориальные источники пополнения педагогических коллективов отличались разнообразием. Наиболее широко были представлены центральные районы РСФСР, Украина, Белоруссия. В школьных отчетах постоянно описываются ситуации дефицита специалистов, который восполнялся непрофильными совместителями. В результате историю преподавал языковед, химию математик, трудовое обучение, музыку и рисование учитель физкультуры и т.д. Если организовать замены или совместительства было невозможно, то предмет мог просто не преподаваться в течение четверти, полугодия или даже учебного года. Например, на протяжении 1981-1982 учебного года в Звезднинской школе отсутствовали учителя физкультуры и истории [16. Д. 70. Л. 85]. Одной из причин недостатка учителей являлись длительные отпуска сотрудников, связанные не только с уходом за ребенком, но и с досрочной выработкой трехлетнего стажа, необходимого для льготного приобретения автомобиля. Многие бамовцы работали непрерывно два с половиной года, после чего получали вместе с автомобилем возможность полугодового Байкалов Н.С. Формирование системы школьного образования в районах строительства БАМа 19 отдыха. Так, в 1983-1984 учебном году в железнодорожной школе № 21 станции Ния одновременно ушли в длительные отпуска 7 из 16 педагогов [16. Д. 89. Л. 80]. Другой причиной нехватки кадров была их текучесть, вызванная как спецификой транспортного строительства, так и крайне неудовлетворительными жилищнобытовыми условиями педагогов. Приезжавшие по распределению молодые специалисты нередко чувствовали себя «брошенными на самовыживание». Учитель Тоннельной средней школы рассказывает: «Прибыл в восьмидесятом году в Тоннельный по распределению. Кругом горы, иду, одного окликнул, так он побежал. Я его догнал, спрашиваю, где гостиница, а он: “Ты что, дурак, в общагу иди”. Общага - грязь, вонизм... Вернулся в школу, нашел актовый зал, прямо на столе уснул. Вахтерша принесла грязный матрац. Утром спросил: помыться где? - В Ангаракане (горная река. -Н.Б.). Холодно... Ананьевна, завхоз, взяла мои сумки и бегом в старое здание школы, там и поселила. Комнатка пять квадратов маленькая была. Вот так для меня начался БАМ.»5 По архивным документам удалось выяснить, что учителя пос. Тоннельного проживали в здании школы в течение года, пока им не предоставили служебное жилье [33. Д. 42. Л. 21]. Проблемы с заселением возникали и у прибывавших «по вызову». Например, направленный в Севе-робайкальск для организации музыкальной школы министерством культуры Бурятской АССР С.А. Давыдов так вспоминает свой приезд: «И приехал я на мыс Курлы, нашел замначальника поезда... Тут палатки стояли вдоль реки Тыи в два ряда. Он меня спрашивает: “И чего я сюда приехал?” Я говорю: “Прислали меня сюда организовывать музыкальную школу”. Он глаза вылупил: кака
Гаврилова Н.Ю. Социальное развитие нефтегазодобывающих районов Западной Сибири (1964-1985 гг.). Тюмень : Нефтегазовый ун-т, 2002. 282 с.
Кирилюк Д.В. Развитие школьного образования в Югре (1945-1991 гг.). Курган : Курганский Дом печати, 2019. 400 с.
Файзуллина Н.К. Школьное образование Западной Сибири в середине 1950-х - середине 1960-х гг. (на материалах Омской, Томской и Тю менской областей) : дис.. канд. ист. наук. Тюмень, 2010. 192 с.
Букин С.С. Опыт социально-бытового развития городов Сибири (вторая половина 1940-х - 1950-е гг.). Новосибирск : Наука, 1991. 240 с.
Куксанова Н.В. Социально-бытовая инфраструктура Сибири (1956-1980 гг.). Новосибирск : Наука, 1993. 223 с.
Рафикова С.А. Быт рабочей семьи Западной Сибири в 1960-е годы. Красноярск : СибГТУ, 2007. 253 с.
Долголюк А.А. Формирование трудовых коллективов Братско-Усть-Илимского ТПК, 1955-1980. Новосибирск : Наука, 1988. 238 с.
Цыкунов Г.А. Ангаро-Енисейский ТПК: проблемы и опыт : (исторический аспект). Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1991. 250 с.
Кин А.А. Регионально-транспортный мегапроект БАМ: уроки освоения // Регион: Экономика и Социология. 2014. № 4 (84). С. 55-72.
БАМ: строительство и хозяйственное освоение / А.Г. Аганбегян и др. М. : Экономика, 1984. 144 с.
Архивный отдел администрации Усть-Кутского муниципального образования Иркутской области (АО УКМО). Ф. Р-29. Оп. 1.
МКУ «Управление культуры и архивного дела муниципального образования “Северо-Байкальский район” Республики Бурятия» (УКАД СБМО). Ф. Р-14. Оп. 1.
История Северо-Байкальского района / сост. Т.П. Темникова. Улан-Удэ : Нова-Принт, 2015. 600 с.
Байкалов Н.С. «Обживая стройку века»: пространство повседневности и жилищная мобильность строителей Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (1970-1980-е гг.) // Новейшая история России. 2018. Т. 8, № 4. С. 998-1016. doi: 10.21638/11701/spbu24.2018.414
Трасса мужества. Бурятский участок БАМа / ред.-сост. П.Л. Натаев. Улан-Удэ : Респ. тип., 2005. 271 с.
АО УКМО. Ф. Р-34. Оп. 1.
Государственный архив Республики Бурятия (ГАРБ). Ф. Р-2002. Оп. 1.
Государственный архив Забайкальского края (ГАЗК). Ф. Р-927. Оп. 1.
Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф. Р-9538. Оп. 16.
БАМ на территории Бурятии: история строительства, ее роль в хозяйственном освоении региона / отв. ред. И.В. Гордиенко. Улан-Удэ : БНЦ СО РАН, 1999. 217 с.
ГАРБ. Ф. П-8. Оп. 12.
Историческая справка об открытии образовательных учреждений Северобайкальского отделения ВСЖД ОАО РЖД // Отдел архивов № 5 Службы управления делами ВСЖД филиала ОАО РЖД.
Архивный отдел администрации Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области (АО КЛМР). Ф. Р-1. Оп. 1.
Архивный отдел администрации муниципального образования «Город Северобайкальск» Республики Бурятия. Ф. Р-2. Оп. 1.
УКАД СБМО. Ф. Р-1. Оп. 1.
Молоков Д.С. Тенденции развития советской общеобразовательной школы второй половины 60-х - первой половины 80-х годов. Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2004. 148 с.
Овчинников А.В. О реформе советской школы 1984 года // Пространство и время. 2014. № 4 (18). С. 190-194.
Острова утопии: педагогическое и социальное проектирование послевоенной школы (1940-1980-е). М. : Новое литературное обозрение, 2015. 720 с.
Байкалов Н.С. Производственный травматизм и охрана труда при строительстве западного участка БАМа (1970-е - 1980-е годы) // Научный диалог. 2019. № 8. С. 226-242. doi: 10.24224/2227-1295-2019-8-226-242
АО КЛМР. Ф. Р-39. Оп. 1.
АО КЛМР. Ф. Р-43. Оп. 1.
Забота партии и правительства о благе народа : сб. док. М. : Политиздат, 1985. Кн. 3, ч. 2. 511 с.
Архив администрации муниципального образования «Муйский район» Республики Бурятия. Ф. Р-4. Оп. 1.
Белова Н.А. Повседневная жизнь учителей / отв. ред. М.Ю. Мартынова. М. : ИЭА РАН, 2015. 228 с.
Валиева Е.Н. Основные аспекты демократизации сибирской школы на рубеже 80-90-х гг. ХХ в. // Интерэкспо ГЕО - Сибирь. 2016. Т. 6, № 1. С. 112-116.
Мищенко А.Н. Социально-профессиональный портрет южноуральского школьного учителя постсоветской эпохи (на примере Челябинской области) // Общество: философия, история, культура. 2018. № 7 (51). С. 77-80.
Народное хозяйство СССР за 70 лет : юбилейный стат. ежегодник. М. : Финансы и статистика, 1987. 766 с.
Школа - забота общая // Северный Байкал. 1984. 6 сент.
АО КЛМР. Ф. Р-38. Оп. 1.
Юрчак А. Поздний социализм и последнее советское поколение // Неприкосновенный запас. 2007. № 2 (52). С. 1-12.
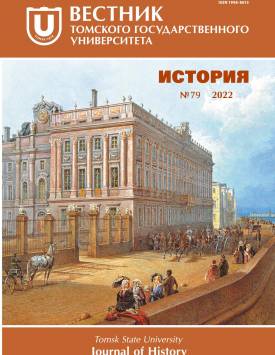

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью