Бриколаж музейных нарративов Новосибирского Академгородка: как работают акторы коллективной памяти среднего уровня
Статья посвящена конструированию коллективной памяти Новосибирского Академгородка в музейных нарративах академических НИИ и локальных сообществ. Изучены и сравнены исторические нарративы 13 мемориальных комплексов ННЦ СО РАН. Средством сравнения выступило предположение о существовании в Академгородке исторического «генерального нарратива», связанного с фигурой академика Лаврентьева и отсылающего к золотому веку 60-х гг. XX в. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Bricolage of Novosibirsk Akademgorodok Museum Narratives: How Collective Memory Actors Work at the Middle Level.pdf Введение Для производства исторической памяти наука примечательна как сфера особой сложности. Основной принцип любой истории - видение своей деятельности как процесса - уже вшит в протоколы науки как формы деятельности. Необходимая рефлексивность научного исследования подкрепляется предписываемыми стандартами работы с текстами современников и предшественников. Одновременно организация научных школ и традиций обеспечивает плотное и постоянное производство коммуникативной памяти науки, которая далее воспроизводится уже в многочисленных артефактах памяти культурной или коллективной. Поэтому история науки как подраздел исторического знания всегда находится в тесной связи и даже, может быть, конкуренции с собственной оценкой траектории развития знания каждой научной дисциплины. Особенно драматичным производство исторической памяти о науке становится с началом эпохи big science, когда академическая башня из слоновой кости превращается в коммунальную квартиру, в которой ученые делят место с корпорациями, государством и его отдельными ведомствами [1]. Одной из форм отечественной большой науки стало возникновение в позднем СССР многочисленных городков ведомственной и академической науки, в которых ученые и инженеры существовали в относительно замкнутых дискурсивных мирах. Дополнительную дискурсивную сложность советской большой науке обеспечивали часто сопутствующие друг другу режимы секретности и идеологической публичности. Вячеслав Герович в своих работах о советском космосе демонстрирует, как коммуникативная память советских космических инженеров и ученых формируется в противовес или в поддержку той идеологической культурной памяти, которую транслировало советское государство [2]. При этом движение исторической памяти о науке не обязательно направлено сверху вниз - от государства к научным организациям и отдельным ученым. Классические подходы к исследованиям памяти, восходящие к Хальбваксу и супругам Ассман, явно или неявно исходят из того, что государство, политические партии, религии или национальная литература - доминирующие игроки на этом поле [3, 4]. С этим соображением, очевидным с учетом всей экономической и организационной мощи современного государства, трудно спорить. Но именно конструирование истории о том, как наука встраивается в «большую» историю, может быть ахиллесовой пятой государственной исторической политики. Во-первых, политикам, идеологам и даже профессиональным историкам зачастую просто не хватает компетенций для работы с историей науки, а во-вторых, для большой науки характерна ситуация, когда ее научные руководители и организаторы, а затем и историографы, сами претендуют на роль проводника государственной исторической политики. Тот же Герович отмечает, что после коллапса СССР участники советского космического проекта мыслили свою деятельность глубже постсоветского государства, не говоря уже о том, что знали о ней гораздо больше. Более того, в тяжелые для космической отрасли 1990-е гг. они фактически навязывали правительству страны свою патриотическую версию космической гонки и через это претендовали в том числе на финансовую поддержку [5]. Похожим образом, но более организованно, в наши дни действуют участники атомного проекта. Корпорация «Росатом» с середины нулевых годов предпринимает целенаправленные усилия по производству своей истории, которую она начинает с 1942 г., когда И.В. Сталин дал АН СССР распоряжение заняться «атомной проблемой» [6]. С 2008 г. функционирует чрезвычайно богатый корпоративный сайт «История атома», а атомные города относительно открыты для пишущих их историю профессиональных исследователей. Такая политика не только делает публичную историю атом- Проблемы отечественной истории /Problems of history of Russia 76 ного проекта самой развитой из всех научно-технологических проектов советского времени, но и приносит богатые профессиональные историографические плоды - в лице Обнинского цифрового проекта и уральской школы истории атомных городов. В данной статье мы хотим продолжить открытую Обнинским цифровым проектом дискуссию о советском наследии научно-технологического сектора России, его культурной памяти, коммуникативных стратегиях встраивания в современные исторические нарративы. Для этого мы обратимся к теме конструирования культурной памяти новосибирского Академгородка и конкуренции различных коллективных субъектов на этом поле за его символическое наследие. Новосибирский Академгородок - передовой проект послевоенной советской организации науки и экономического развития Сибири, который одновременно стал точкой приложения оттепельных утопических ожиданий советских людей. Американский историк Пол Джозефсон, описывая дух новаторства почти во всех отраслях, представленных в сибирском городе науки и знаний, сравнивает Академгородок с Домом Соломона из романа-утопии Фрэнсиса Бэкона «Новая Атлантида» [7]. Об утопическом энтузиазме пишут также Е.Г. Водичев, Н.А. Куперштох и И.С. Кузнецов, изучавшие научный этос и политические кампании конца 1960-х гг. в Академгородке, отмечая, как установки на разномыслие, оттепельный коммунизм и научный поиск у первых обитателей Академгородка постепенно вступали в противоречие с реалиями функционирования советской идеологической машины [8, 9]. Наконец, и авторы данного текста в предшествующей публикации об идее «города-леса» в Академгородке также указывали на особый дискурсивный характер говорения о будущем, в котором разворачивался архитектурный проект СО АН СССР в Новосибирске [10]. Устремленность Академгородка в будущее вела к тому, что его нарратив практически до конца советской эпохи мало касался истории. С распадом СССР Академгородок перестал быть частью процесса построения коммунизма, а его связь с будущим окончательно потеряла внешнюю рамку. Последний процесс начался даже чуть раньше. В 1980 г. публикуются мемуары основателя Академгородка М.А. Лаврентьева «Прирастать будет Сибирью» [11], посвященные его деятельности на посту организатора и руководителя СО АН СССР. Вслед за Лаврентьевым свои воспоминания начинают оформлять и другие пионеры Академгородка. Пошел процесс преобразования коммуникативной памяти в культурную, который не завершился и по сей день. В ГПНТБ СО РАН хранится уже более 150 мемуарных и мемориальных изданий о сибирском городе науки, и их число продолжает расти [12]. Мысль мемуаристов, историков-любителей и истори-ков-профессионалов, стремится преодолеть исчезновение внешнего направления советской истории Академгородка и понять, куда должно это научное и гражданское сообщество двигаться дальше, как сохранить заложенные в него принципы, в чем эти принципы, собственно, состояли и как соотносились с советским проектом в целом. Главная теоретическая проблема при изучении исторической памяти находится в пространстве перехода от индивидуального припоминания к коллективному историческому нарративу. Коллективная или культурная память, как пишут М. Бернхард и Я. Кубик, подобна океану, в котором существует множество непохожих и часто противоборствующих течений [13]. Не являясь чем-то раз и навсегда зафиксированным, эта память постоянно меняется, поскольку каждый из ее участников желает привнести свою версию в общее историческое прошлое. Основная функция культурной памяти заключается в том, чтобы помочь тому или иному коллективному субъекту определить свое место среди других таких же субъектов, обозначить их границы в рамках существующего социального порядка, сформировав тем самым общую групповую идентичность. Относительно понятны конструктивистские механизмы идеологического производства больших общественных движений и субъектов - государств, наций, классов. Но проблема культурной памяти, на наш взгляд, коренится в промежуточном уровне коллективных субъектов между личностью и большими общностями. Для Академгородка такими коллективными субъектами мы полагаем коллективы научноисследовательских институтов Сибирского отделения Российской академии наук и другие локальные общественные организации. Дополнительно мы хотим разделить сознательные усилия людей по коллективному конструированию истории и стихийный процесс унификации формы, происходящий при, скажем, складывании литературного жанра. Мемуарное творчество, если оно прямо не инспирируется сверху, относится к последнему процессу. Поэтому, несмотря на важность академгород-ковского мемуарного корпуса для историков, в этой работе мы сфокусировались на иных институтах сознательного производства коллективной памяти -музеях академических институтов и общественных инициатив Академгородка. Мы полагаем, что, функционируя как пространства собирания и трансляции памяти отдельных коллективов, эти мемориальные комплексы вносят значимый вклад в создание коллективных общественных субъектов среднего уровня через их исторические нарративы. Музеи часто рассматриваются в рамках концепции двухчастной модели исторической памяти современной России, которая содержит героизированную версию прошлого, спущенную сверху, и локальную память, которая хранит истории множества отдельных сообществ, семей и людей [14]. Рассматриваемые нами комплексы являются по большей части «ведомственными» музеями СО РАН, а их экспозиции и нарративы не сводятся ни к государственному патриотизму, ни к исключительно локальным героям. Скорее, эти организации перебрасывают мемориальный мост между групповой идентичностью своих сообществ и большой историей Академгородка и через это историей страны. Поэтому мы полагаем возможным говорить о них как об институтах производства культурной памяти среднего уровня. Пискунов М.О., Бугаев Р.С., Маклаков М.И. Бриколаж музейных нарративов Новосибирского Академгородка 77 Источники и «генеральный нарратив» Академгородка Почти все НИИ ННЦ СО РАН имеют собственные музеи или мемориальные комнаты, которые создают свои истории появления и развития Академгородка. Предметом исследования стали 13 мемориальных комплексов, коллекции которых были нами осмотрены, а с хранителями проведены исследовательские интервью: музеи Новосибирского государственного университета, Специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета (ФМШ), Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева, Института органической химии им. Н.Н. Ворожцова, Института гидродинамики им. М.А. Лаврентьева, Института ядерной физики им. Г.И. Будкера, Центрального сибирского ботанического сада, Института цитологии и генетики, Клуба юных техников, Интегральный музей Академгородка, Музей науки и техники, мемориальные кабинеты академиков Н.Н. Яненко и В.А. Коптюга. Этот перечень не является исчерпывающим, академических музеев гораздо больше, но не все нам удалось посетить в силу технических или административных обстоятельств. Работа с музейными комплексами научных институтов ННЦ СО РАН начиналась со встречи с хранителем музея или сотрудником НИИ, который поддерживает мемориальную комнату. Далее следовали посещение музея / мемориального кабинета, знакомство с официальной частью экскурсии, а после беседа с нашим гидом в более неформальной обстановке. Разумеется, такое наблюдение подвержено двойной субъективации передаваемой информации - музейного хранителя как транслятора исторического нарратива и нас как слушателей. Поэтому нужно учитывать, что последующее изложение - это, скорее, наша интерпретация текущего процесса в попытке ухватить тренды. Соответственно, все исторические ошибки и искажения остаются на нашей совести. При работе с собранными нарративами мы исходили из того, что в Академгородке существует исторический «генеральный нарратив», который связан с локальным культом академика М.А. Лаврентьева, чьим именем в Академгородке названы улица, школа, НИИ и прочие топографические объекты. Более того, некоторые старожилы метафорически называют Академгородок первых лет его существования «академической деревней Лаврентьевкой» [15]. В общих чертах «генеральный нарратив» выступает как рассказ о создании в глухой тайге научного центра мировом уровня, а темпорально речь идет о золотом веке 60-х гг. XX в. В этом обобщающем нарративе фигура Михаила Алексеевича Лаврентьева является центральной. Как академик-основатель Лаврентьев символизирует лучшие времена истории Академгородка, а масштаб его личности зачастую по законам мифологического жанра гиперболизируется. Мы избегаем говорить о «генеральном нарративе» как об официальной памяти, так как его источником не является государство, а его воспроизводство не связано напрямую с государственными каналами исторической политики. Характер использования в музейном нарративе «генерального нарратива» рассматривался нами как способ разделять и сравнивать механизмы конструирования истории института, Академгородка и страны. Таким образом, в статье мы попытаемся ответить на следующие вопросы: Как в наблюдаемых музеях обращаются к собственной истории и к истории Новосибирского Академгородка? В каких отношениях эти истории находятся с «генеральным нарративом»? Можно ли говорить о музеях как о среднем типе акторов производства коллективной памяти, а о науке - как о сфере, где это особенно ярко проявляется? Борьб а за Лаврентьева Изученные нами музейные комплексы структурированы внутри хронологически или тематически. Часто музеи, основанные изначально на мемориальном кабинете, сохраняют его внутри себя как отдельную тематическую экспозицию. Другие музеи появляются как несистематизированные коллекции вещей и по своему принципу могут быть сродни гаражам. Наконец, особые статусные музеи созданы крупными организациями для внешней рекламы и привлечения инвестиций. Соответственно, различаются и музейные работники: в большинстве случаев это научные сотрудники НИИ, совмещающие поддержание мемориальных комплексов с собственной исследовательской работой, иногда один из руководителей института, и только крупные организации вроде университета могут позволить себе отдельную ставку освобожденного музейного работника. Темпоральность большинства экспозиций выражается несколькими обязательными этапами: создание НИИ в начале 1960-х, его последующий расцвет, трудный период в 1990-е гг., современная жизнь. Сначала мы обратимся к музейным комплексам, которые примыкают к генеральному нарративу. Официальный Музей истории СО РАН, находящийся в «домике Лаврентьева», уже много лет не функционирует. Для юбилейных тематических выставок руководство Академии наук обычно использует выставочный центр СО РАН, в котором выделяют несколько комнат для экспозиции, или выставляют стенды на пр. Коптюга. Так, например, осенью 2020 г. в честь 120-летия М.А. Лаврентьева там была организована выставка под названием: «Михаил Алексеевич Лаврентьев. Человек планетарного масштаба: созидатель и ученый. К 120-летию со дня рождения». Отчасти функцию основного музейного комплекса Сибирского отделения мог бы взять на себя Музей науки и техники СО РАН. Его экспозиция стремится создать обобщающую историю Академгородка через историю вещей и технических решений. Для этого используется интересное композиционное решение: музей имитирует пр. Лаврентьева, на котором расположена большая часть НИИ Новосибирского научного центра. Такое символическое воплощение пространства города науки сочетается с выставленной техникой, которая должна соотноситься с процессом технического развития Академгородка. Однако нам показалось, что целостный нарратив музея не складывается. В экс- Проблемы отечественной истории /Problems of history of Russia 78 позиции используются все вещи, которые организаторы получают от местных жителей, из-за чего рассказ музея распадается на части и теряет стержень, заданный визуальным приемом проспекта-дороги экспозиции. Проспект вынуждает говорить именно об Академгородке, в то время как экспонаты - об истории техники в целом. Наконец, несмотря на официальный статус, Музей науки и техники СО РАН делается в основном силами энтузиастов и сочувствующих местных жителей, и на имеющиеся амбициозные задумки ему не хватает ресурсов. В условиях текущего эпизодического присутствия СО РАН в поле культурной памяти Академгородка систематически на «генеральный нарратив» претендует музей истории Новосибирского государственного университета. Это можно заметить даже в его визуальной организации. Напротив входа в музей - граффити с изображением М.А. Лаврентьева и цитатой о необходимости давать студентам фундаментальное образование. Над этой цитатой расположена другая: «Развитие самостоятельного мышления - через самостоятельную деятельность», - одна из самых ходовых исторических формулировок, использовавшихся при основании НГУ. А прямо над этими цитатами находится надпись: «Новосибирский научный центр / исследования, инновации, традиции». Эта фраза и предыдущая цитата также заключены в еще одни кавычки других (по сравнению с цитатой Лаврентьева) цветов, создавая, с одной стороны, ощущение единства, а с другой стороны, показывая идущий процесс соединения двух частей в один нарратив. Принцип сочетания упоминаний всего Академгородка и НГУ продолжается и далее по музею: в облаке понятий; в фотографиях, отражающих моменты истории университета, где ключевую роль играет Лаврентьев; в особом месте для бюста академика-основателя СО АН СССР (хотя у университета есть своей академик-основатель - И.Н. Векуа). В своем рассказе музейный работник подчеркивает место НГУ в Новосибирском Академгородке как части организационного принципа «треугольник Лаврентьева». На этот каркасный сюжет о НГУ как части большого проекта надеваются истории факультетов и внеучебной деятельности. Таким образом, нарратив музея сконцентрирован вокруг более широкого демиургического нарратива, связанного с М.А. Лаврентьевым и его «треугольником», а «генеральный нарратив» преобладает над локальной историей университета. История музея НГУ была бы неполной без внешнего контекста. В 2010-е гг. Новосибирский государственный университет активно участвует в федеральных программах развития, в том числе в программе 5-100. Именно в этот период было завершено строительство нового корпуса НГУ, в котором и была создана экспозиция, посвященная истории университета. Таким образом, музей работает над формированием имиджа НГУ и становится пространством формирования образа прошлого и будущего. Своим музеем университет стал не только одним из важных претендентов на лаврентьевское наследие, но и выступает ключевым игроком в формировании самого «генерального нарратива». Наконец, именно в музее НГУ расположилась экспозиция «У истоков Сибирской Академии», которая посвящена 120-летию М.А. Лаврентьева и отчасти дублировала публичный стенд СО РАН на пр. Коптюга. Иначе апеллирует к «генеральному нарративу» музей Клуба юных техников (КЮТ) СО РАН. Главной фигурой экспозиции в нем также выступает академик Лаврентьев, который является здесь первым почетным КЮТовцем. Этот статус закрепляется местным несколько патриархально-фамильярным прозвищем М.А. Лаврентьева - Дед. Прозвище корнями уходит в неформальное общение первых лет Академгородка среди первого поколения академгородцев, состоявшего в основном из учеников академика-основателя и их детей. Нам показалось, что личная связь между Лаврентьевым и «юными техниками» привносит в экспозицию мотив сожаления об ушедших золотых временах и текущих материальных трудностях клуба. Символом этой в 2020-х гг. уже фантомной тоски выступает проект бассейна для корабельных моделей, который разработали для КЮТа еще в 1960-е гг., но так и не реализовали. Обращение к «генеральному нарративу» музея физико-математической школы (ФМШ) при университете, наоборот, отличается слабой степенью ностальгии по советскому прошлому. Экспозиция здесь размещена в специальной комнате, которая одновременно выполняет роль архива. Фон ей задают портреты М.В. Ломоносова, М.А. Лаврентьева и А.А. Ляпунова. Характерным представляется, что смотритель музея - студент НГУ и выпускник ФМШ - уделил внимание лишь очевидным героям «генерального нарратива» - Лаврентьеву и Ломоносову. К образу последнего активно обращался Лаврентьев, обосновывавший свои проекты организации большой науки в Сибири, поэтому фигура Ломоносова парадоксальным образом усиливает «генеральный нарратив». А вот академик Ляпунов, стараниями которого в Академгородке и появилась первая в СССР физико-математическая школа, оказался вытеснен повествованием о перипетиях истории ФМШ в 1990-2000-е гг. в связи с поиском финансирования и борьбой за особый статус школы. В нарративе школы выстраиваются иные темпоральные отношения с историей, возможно, в связи с постоянной сменой поколений в самой ФМШ, в которой, таким образом, актуализируется короткая память. От обращающихся в своих нуждах к «генеральному нарративу» о Лаврентьеве организаций перейдем к его наиболее естественному транслятору и хранителю памяти об академике-основателе Академгородка, которым является некогда возглавляемый им Институт гидродинамики. Кроме рассказа о Лаврентьеве музейный хранитель передает память о его научных соратниках и значимых достижениях в области гидродинамики. В фойе института расположена фотография Михаила Алексеевича во всю стену, а чуть правее - фотографии важнейших сотрудников, организованные согласно полученным ими премиям: Ленинская, Правительства РФ и др. Мемориальный кабинет Михаила Алексеевича расположен на втором этаже, в изначальном кабинете пер- Пискунов М.О., Бугаев Р.С., Маклаков М.И. Бриколаж музейных нарративов Новосибирского Академгородка 79 вого директора, и, по словам хранителя, существует с момента ухода Лаврентьева с поста директора ИГиЛ. На двери, ведущей в кабинет, красуется табличка с надписью: «ДИРЕКТОР, Лаврентьев М.А.», которая хотя и является новоделом, но составляет предмет гордости сотрудников института. Сам кабинет является собранием предметов разных времен, составляющих номенклатурный минимум тех лет: несколько телефонов на столе, портрет В.И. Ленина напротив рабочего стола, советский офисный стул. От первоначального кабинета остались лишь стол и телефон, и сейчас в нем размещены вещи, смысл которых состоит в указании на влиятельность института: например, подарки от зарубежных делегаций, макеты научных разработок; на стене висит карта мира, на которой раньше отмечались города, состоявшие в тесном сотрудничестве с институтом. Наконец, в мемориальном кабинете находится стол для совещаний, который отсылает к временам, когда за ним, по словам хранителя, собирался президиум СО АН. Нарратив, транслирующийся музейным работником, который одновременно является научным сотрудником, повествует о руководящей роли Института гидродинамики в истории Новосибирского Академгородка. Так, здание института было построено одним из первых, руководство Лаврентьева оставило свой след в статусе НИИ, а сотрудники занимались и занимаются засекреченной, но почетной военной тематикой. Следует отметить двойственный характер фигуры М.А. Лаврентьева в этом нарративе - одновременно и как основателя Академгородка, и как первого директора института. Количество мемориальных объектов, повествующих о роли и месте фигуры основателя, в соотношении с сохранностью и качеством музейных объектов, реально принадлежавших Михаилу Алексеевичу, позволяет предположить, что музейный кабинет является не столько объектом полустихийной комме-морации, сколько примером целенаправленной исторической политики института. Повторение бытовой обстановки лаврентьевского мемориального кабинета должно сохранить образ значимой фигуры в своих стенах и через это в умах посетителей сохранить положение НИИ в иерархии академических организаций. Сильная идентичность отдельных НИИ Перейдем к другому блоку, к которому относятся музеи, выражающие в своем нарративе более обособленную идентичность. Почти все они - музеи отдельных НИИ, что подчеркивает их отличие как средних акторов конструирования памяти. Музей Института органической химии им. Н.Н. Ворожцова (НИОХ СО РАН) демонстрирует двухсоставной нарратив. Во-первых, это демонстрация достижений научного коллектива, которыми доказывается вклад в мировую науку и практическая значимость института: изготовление специальных материалов, производство удобрений, создание различных средств для химической промышленности. Во-вторых, история института разделена по временам руководства разных директоров и слабо связана с общей историей Академгородка. Портрет М.А. Лаврентьева мы смогли найти лишь на стенде вне музейного помещения - на одной из медалей в абсолютно непримечательном месте. Еще более интересна в этом отношении даже не музейная экспозиция, а огромная картина шириной около 4,5 м и высотой 2,5 м, которая расположена в главном конференц-зале института. На ней изображены первые тринадцать сотрудников Института органической химии, которые сидят вокруг стола. Композиция является очевидной аллюзией на «Тайную Вечерю» Леонардо да Винчи. При этом нимбами на картине обладают только одиннадцать мужских фигур, а две женские, хотя и сидят справа и слева от основателя института академика Н.Н. Ворожцова, их лишены. Это вызывает еще больший интерес, когда узнаешь, что на черновике картины, который также хранится в институте, у обеих женщин нимбы имеются. На наш вопрос музейному хранителю о причинах такой дискриминации женщин он ответил, что, вероятно, это связано с тем, что обе женщины работали секретарями. Нам удалось выяснить лишь, что картина была создана во второй половине 1960-х гг., но ее автор и заказчик неизвестны. Такой экстравагантный для позднесоветского периода способ изображения отцов-основателей и их академической культуры, с одной стороны, демонстрирует стремление к конструированию собственного нарратива, а с другой - определенную независимость от идеологических рамок. Повествование другого музея - Центрального сибирского ботанического сада (ЦСБС СО РАН) - тоже отрывается от генерального. Так, история в музее начинается за 15 лет до основания Новосибирского Академгородка, так как изначально ботанический сад находился в другой части города. Этот период представлен как равноценный последующим, когда ЦСБС уже вошел в состав Новосибирского научного центра. Более того, за счет этого подчеркивается его значимость, так как элементы, обладающие отдельной, более глубокой историей, могут претендовать на индивидуальность и отделение от «генерального нарратива». Экспозиция музея состоит из характеристик сибирской агрономии и ботаники, а также архива с документами, посвященными первичному озеленению Академгородка и его урбанистическим задумкам: тропинкам и дорогам, расположению кустарников и цветников, посадкам берез и сосен, которые растут до сих пор. Рассказ об озеленении научного центра играет сравнимую роль с доакадемгородковским периодом. Его отличительной особенностью является использование воспоминаний сотрудниц 1950-1960-х гг. Именно женщины, согласно рассказу музейного работника и сотрудницы ботсада, составляли большую часть штата ЦСБС и участвовали в озеленении Академгородка. «Девушки, приехавшие из Ленинграда вслед за своими мужьями в Сибирь», стали важными акторами создания зеленого облика наукограда. Таким образом, нарратив музея ботанического сада амбивалентен. С одной стороны, он достаточно независим от Академгородка, а с другой - увязывается с приездом в Сибирь за новой жизнью тех женщин и муж- Проблемы отечественной истории /Problems of history of Russia 80 чин, которые буквально своими руками создали зеленую инфраструктуру города науки. Отдельную характеристику можно дать музею Института цитологии и генетики СО РАН (ИЦиГ СО РАН), экспозиция которого представлена несколькими яркими историями. Во-первых, это дружба одного из первых и самых выдающихся директоров института Дмитрия Беляева с Михаилом Лаврентьевым. Оба были значимыми и харизматичными лидерами, но при этом первый руководил пусть уже и не опальной, но подозрительной в советской науке генетикой, а второй был доверенным лицом советской власти в только что основанном молодом наукограде. Симбиоз Дмитрия Беляева с Михаилом Лаврентьевым позволял генетикам существовать в Новосибирском Академгородке. Во-вторых, главное международно признанное научное достижении института - доместикация лис, которая показала, что эволюционный механизм приручения и одомашнивания диких особей заключается в том числе в изменениях на генетическом уровне. И в-третьих, история о достижениях в области агрономии: выведение особого вида сахарной свеклы и морозостойкой пшеницы, которые были необходимы в рамках освоения плодородных и тяжелых для ведения сельского хозяйства географических пространств Сибири. Все это позволяло и позволяет существовать институту, деятельность которого была ограничена в советский период «лысенковщиной». Таким образом, генетики транслируют несколько нарративов: легальное и близкое взаимоотношение с локальной элитой, практичный и признанный в мире успех одомашнивания диких животных и стремление служить стране, изобретая новые сельскохозяйственные продукты. Вдобавок выведение новых сортов, как следует из нарратива музея, окупило строительство Академгородка. Стоит отметить, что структура аргументов этого нарратива аналогична структуре аргументов, которые генетики приводили в спорах со сторонниками агробиологии [16]. То есть мрачная тень «лысенковщины» до сих пор неявно влияет на способы сотрудников ИЦиГа говорить о себе и своем деле. Структурно схожим образом, но без таких мрачных коннотаций, обособленно представлена история Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева (ИГМ СО РАН), музей которого состоит из обширной экспозиции минералов и полезных ископаемых, добываемых на территории Сибири. Ресурсы огромных пространств и их польза для общества, страны и государства является предметом гордости сотрудников, а видные деятели геологии и минералогии XX в. выступают локальными героями. История института, которую транслируют музей и его хранители, образуется значимыми исследователями и важными геологическими открытиями: месторождениями нефти и газа в Западной Сибири, угольными залежами Кузнецкого бассейна и алмазными трубками в Якутии. Эти и другие достижения позволяют музеям крупных академических институтов создавать и транслировать нарративы, минимально связанные с генеральным, или творчески привязывать к нему собственную историю, как в случае с Институтом цитологии и генетики. Но даже среди прочих мощных научных институтов ННЦ СО РАН особняком стоит Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера (ИЯФ СО РАН). В ИЯФе не существует музея как такового, но институт проводит у себя регулярные экскурсии, одну из которых нам удалось посетить. В предложенном нарративе просто не существует периода экономического или культурного упадка, который характерен для истории других НИИ в 90-е гг. XX в. Институт, по словам сотрудников, существовал и существует всегда примерно в одном виде, не испытывая серьезных изменений, хотя дорогостоящее и сложное в производстве оборудование со временем подвержено старению и деградации. Научные и производственные успехи Института ядерной физики зависят от двух коллайдеров: старого и нового, на которых проводятся испытания и эксперименты, составляющие предмет гордости сотрудников. Процесс производства, верификации и апробирования научного знания дорогой и долгий не только в стоимости и обслуживании, но и в запуске. Поэтому, по словам одного из информантов, в институте всегда кипит жизнь, существуют зависимость и конкуренция с коллегами, которые проводят испытания совместно. Требуется кооперация, при этом результаты исследований прозрачны внутри корпорации. Коллайдеры, являясь главным достижением ИЯФа, влияют на состояние коммеморации, которой в привычном виде почти не существует. Среди «музейных экспонатов», находящихся в небольшом коридоре, - остатки первого в СССР коллайдера, который, по сообщению проводившего экскурсию научного сотрудника, собрали на территории Академгородка, протестировали, разобрали, увезли в Москву, собрали, официально запустили там, потом увезли на родину. Вместе с первым коллайдером располагаются его запчасти. Институт ядерной физики гордится своей независимостью и экономическим положением, которое определяется идеей самоокупаемости и коммерциализации фундаментальной науки. Так, 40% доходности института приносит продажа изделий собственного производства, например магнитных катушек для изменения направления движения частиц по коллайдеру. Сотрудники помнят и разделяют основные положения объединения «Факел», которое в советские годы предлагало НИИ перейти на самоокупаемость, создать капитализм в отдельной организации, но было закрыто по указанию из Москвы [17]. Гордость вызывает и авторитет ИЯФа среди мировых институтов, например, в области верификации новых элементов. Коммеморация института ядерной физики представляет собой отождествление с настоящим, потому что деятельность сотрудников и их достижения связаны с работой коллайдеров, которые требуют большого количества временных и денежных ресурсов для создания, настройки, запуска и поддержания. Дорогостоящее оборудование еще не устарело морально, оставаясь в ходу, хотя немного устарело физически. Работа с коллайдером придает сотрудникам благородный подвижнический облик: их работа почти вечна, актуальна с 60-х гг. прошлого века и не потеряет смысл и заказчиков еще долгое время. Поэтому, ка- Пискунов М.О., Бугаев Р.С., Маклаков М.И. Бриколаж музейных нарративов Новосибирского Академгородка 81 жется, внедрять классические коммеморативные практики пока что не имеет смысла: работа не окончена. Таким образом, коммеморативное поле института ядерной физики представляет собой максимальное отклонение от «генеральной» линии памяти Новосибирского Академгородка. Наконец, отличный от описанных выше тип нарратива демонстрируют частные музеи, созданные местными активистами на свои средства и частные пожертвования. Самым известным из них в Академгородке является Интегральный музей, расположенный в жилом доме и посвященный повседневной жизни академ-городковцев: выставочная композиция расположена в двух жилых комнатах, имитирующих пространство типовой советской квартиры 1960-1970-х гг. Пространство музея заполнено предметами, относящимся к индивидуальным историям жителей Академгородка, такими как фотокамеры, радиоприемники, стулья и кресла, личные письма и книги. Интегральный музей существует в рамках частной инициативы и представляет собой небольшое объединение единомышленников, которые обладают мотивацией и желанием интегрировать всю память о Новосибирском Академгородке, а не об отдельном научно-исследовательском институте. Повествование музея строится из воспоминаний о «новой жизни» только что приехавших в Академгородок в начале 1960-х гг. ученых. В отличие от «тесной Москвы», на окраине Новосибирска существовала «свобода», которую хранители музея описывают как главную составляющую культурной жизни и символ Академгородка. Жизнь в только что основанном наукограде представляется как островок спасения от советской цензуры и идеологического контроля. Отмечается, что за свободу новые жители платили бытовыми неудобствами, но активная культурная и общественная жизнь скрашивала существование вдали от столицы. 1968 год считается переломным, когда кончилась локальная оттепель, а с ней и «золотой век». Свобода в представлении хранителей Интегрального музея закончилась в Новосибирском Академгородке вместе с деятельностью клуба «Под интегралом», воспоминания о котором являются центральным мотивом музея. Именно рефлексия быта и культуры раннего Академгородка смещает ракурс памяти Интегрального музея с привычных музейных нарративов - директоров институтов или значимых научных сотрудников -в сторону от связанной с М.А. Лаврентьевым «генеральной линии» репрезентации. Помимо научных руководителей в рассказах основательницы музея Анастасии Близнюк подчеркивается и роль ее отца Германа Безносова и других деятелей культуры и науки из клуба «Под интегралом», которые по значимости не уступают академикам. Еще одним, пожалуй, самым амбициозным способом Интегра
Скачать электронную версию публикации
Загружен, раз: 37
Ключевые слова
Академгородок, историческая память, big science, музеи, STSАвторы
| ФИО | Организация | Дополнительно | |
| Пискунов Михаил Олегович | Тюменский государственный университет | кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Лаборатории междисциплинарных исследований пространства Школы исследований окружающей среды и общества | m.o.piskunov@utmn.ru |
| Бугаев Роман Сергеевич | Тюменский государственный университет; Европейский университет в Санкт-Петербурге | лаборант-исследователь Лаборатории междисциплинарных исследований пространства Школы исследований окружающей среды и общества; магистрант факультета истории | r.s.bugaev@utmn.ru |
| Маклаков Михаил Иванович | Тюменский государственный университет | лаборант-исследователь Лаборатории междисциплинарных исследований пространства Школы исследований окружающей среды и общества | m.i.maklakov@utmn.ru |
Ссылки
De Solla Price, D. Little Science, Big Science. Columbia University Press, 1962.
Gerovitch S. Soviet Space Mythologies : Public Images, Private Memories, and the Making of a Cultural Identity. Pittsburgh : University of Pitts burgh, 2015. xviii, 232 р.
Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М. : Языки славянской культуры, 2004. 363 с.
Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. 2005. № 2-3 (40-41). С. 8-27.
Gerovitch S. Voices of the Soviet space program: cosmonauts, soldiers, and engineers who took the USSR into space. New York : Palgrave Macmillan, 2014. 321 р.
История Росатома. URL: http://www.biblioatom.ru/evolution/vvedeniye/ (дата обращения: 13.06.2022).
Josephson P. New Atlantis Revisited: Akademgorodok, the Siberian city of Science. Princeton : Princeton University Press, 1997. XXII, 351 р.
Водичев Е.Г., Куперштох Н.А. Формирование этоса научного сообщества в Новосибирском Академгородке, 1960е годы // Социологический журнал. 2001. № 4. С. 41-66.
Кузнецов И.С. Общественные настроения ученых Новосибирского Академгородка в середине 1960-х годов // Вестник Новосибирского государственного университета. Сер. История, филология. 2008. № 1. С. 245-255.
Bugaev R., Piskunov M., Rakov T. Footpaths of the Late-Soviet Environmental Turn: The “Forest City” of Novosibirsk’s Akademgorodok as a Sociotechnical Imaginary // The Soviet and Pos t-Soviet Review. 2021. № 48. P. 289-313.
Лаврентьев М.А. Прирастать будет Сибирью.. М. : Молодая гвардия, 1980. 175 с.
Проект «Академгородок литературный». URL: http://www.prometeus.nsc.ru/akademgorodok/lettres/memoirs/index.ssi (дата обращения: 12.06.2022).
Bernhard M., Kubik J. A Theory of the Politics of Memory // Twenty years after communism: The politics of memory and commemoration / M. Bernhard, J. Kubik (eds.). Oxford : Oxford University Press, 2014. Р. 7-36.
Какое прошлое нужно будущему России : аналитический доклад Вольного исторического общества по заказу Комитета гражданских инициатив. 2017. 23 янв. // Комитет гражданских инициатив. URL: https://komitetgi.ru/analytics/3076/(дата обращения: 13.06.2022).
Таран И.В. Из истории Центрального сибирского ботанического сада СО РАН. Новосибирск : Гео, 2015. 164 с.
Кременцов Н.Л. Принцип конкурентного исключения // На переломе : советская биология в 20-30-х гг. / под ред. Э.И. Колчинского. СПб., 1997. Т. 1. С. 149-153.
НПО «Факел»: как это было / под ред. И. Самаховой. Новосибирск, 2012.
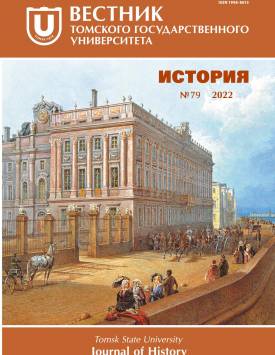
Бриколаж музейных нарративов Новосибирского Академгородка: как работают акторы коллективной памяти среднего уровня | Вестн. Том. гос. ун-та. История. 2022. № 79. DOI: 10.17223/19988613/79/9
Скачать полнотекстовую версию
Загружен, раз: 625

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью