В статье впервые в отечественном литературоведении объектом исследования становится книга путевых записок французского литератора Виктора Тиссо (1845-1917) «Россия и русские» (1882). Путевые записки Тиссо о России рассматриваются в контексте русскофранцузских отношений на рубеже XIX-XX вв. Отмечено, что характерной особенностью поэтики Тиссо становится сочетание эстетизации с макабрическими и готическими элементами в структуре образа России. Сделан вывод о заметном вкладе Тиссо в разрушение мифа о закрытости России, созданного Кюстином и парижской прессой, и в целом позитивного образа России в преддверии заключения русско-французского альянса. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
Travel notes Russia and Russians by Victor Tissot in the context of Russian-French relations at the turn of the 2.pdf Конец XIX - начало XX в. стали новым этапом в русскофранцузских отношениях. Он был отмечен невиданным дотоле сближением двух стран. Дело не только в том, что ухудшилось положение Франции, менялся статус и России. Страна вступала в новую полосу модернизации по западному образцу: в 1880-1890-е гг. происходит промышленная революция. «В отношении к европейскому опыту прагматический интерес брал верх над стремлением утвердить экзистенциальные различия, культура Серебряного века органически сочетала в себе взлет «русского гения» и европейские формы» [1. С. 24]. Как отмечал британский историк Эрик Хобсбаум, в экономическом отношении модернизирующаяся по западному образцу Россия, несомненно, стала частью Запада, правда его периферийной частью, в политическом отношении «царская империя была скорее колонизатором, чем колонией, а небольшое образованное меньшинство населения было частью культурного слоя, прославившего западную цивилизацию XIX века», в сфере культуры Россия Достоевского, Толстого, Чехова, Бородина и Римского-Корсакова была великой державой, каковой не являлись, например, Соединенные Штаты Америки, хотя Россия и не могла соперничать с ними по темпам экономического роста и повышения жизненного уровня населения [2. С. 28-30]. Таким образом, на рубеже веков Россия, с одной стороны, в силу своих внутренних потребностей ориентировалась на западные модели модернизации и искала сближения с Западом, а с другой - уже явила Западу свою культурную значимость и самобытность, сделав столь популярный в предыдущем столетии тезис о подражательности русской литературы и культуры весьма сомнительным. О России уже нельзя было сказать то, что сказал Гегель о славянских народах в своих лекциях по философии истории в начале XIX в., что она «не выступала как самостоятельный момент в ряду обнаружения разума в мире» [3. С. 368]. Другое дело, что «Россия по-прежнему не была частью западного мира в том смысле, как это понимали французы: с точки зрения веры в права человека» [4. С. 34]. Однако эти ценностные различия отошли на второй план перед описанными выше политическими интересами и потребностями Франции конца XIX в. 289 Трыков В.П. Путевые записки «Россия и русские» Виктора Тиссо В начале 1880-х - 1890-е гг. Франция была охвачена «модой» на Россию. Растет интерес к русскому языку и литературе. Именно в это время началась специализация и институционализация знаний о России. В начале 1880-х гг. в Коллеж де Франс была открыта кафедра русского языка и литературы. В 1886 г. ее возглавил известный литературовед, специалист по русской литературе, автор «Истории русской литературы» (1893), большой антологии русской литературы, Луи Леже. До этого в Коллеж де Франс существовала общая кафедра славистики. К концу XIX в. Коллеж де Франс стал центром русистики во Франции. В 1891 г. известный славист П.В. Буайе возглавил кафедру русского языка в парижской Школе восточных языков. В начале 1890-х гг. были открыты кафедры русского языка в нескольких провинциальных университетах. Во Франции появляются серьезные научные исследования по истории России: в 1878 г. в крупном парижском издательстве «Ашетт» увидела свет «История России от истоков до 1877 года» Альфреда Рамбо (1842-1905). В 1882-1883 гг. там же вышло трехтомное исследование видного французского историка, профессора парижской Свободной школы политических наук Анатоля Леруа-Больё (1842- 1912) «Империя царей и русские», ставшее самым обстоятельным и серьезным историческим трудом о России во Франции XIX в. За ним последовали другие книги Леруа-Больё о России: «Русский государственный деятель. Николай Милютин. Очерк о России и Польше во время царствования Александра II» (1884), «Франция, Россия и Европа» (1888). В течение многих лет Леруа-Больё печатал свои статьи о России в авторитетном парижском журнале «Рёвю де дё монд». Цель автора состояла в том, чтобы развеять страхи и предрассудки французов по отношению к России, вызвать интерес и симпатию к ней. При жизни Леруа-Больё его «Империя царей и русские» была переведена на немецкий и английский языки. Работы Леруа-Больё оказали значительное влияние на формирование образа России в сознании французской политической элиты и культурного слоя на рубеже веков, содействовали подготовке русско-французского альянса. В 1886 г. увидела свет пятисотстраничная книга другого французского ученого, профессора истории Безансонского университета Ле-онса Пенго «Французы в России и русские во Франции». Труд Пенго стал одной из первых солидных работ во французской науке о рус-290 Имагология / Imagology ско-французских связях. В своей реконструкции истории русскофранцузских отношений, охватывающей значительный период с XVI в. и до эпохи Реставрации, ученый опирался на многочисленные источники: мемуарную литературу, материалы прессы, научные труды, архивные документы. Продолжателем традиции Пенго стал Эмиль Оман, автор монографии «Французская культура в России (1700-1900)» (1910). «Мода» на Россию и стремление к сближению с ней нашли отражение во французской прессе и публицистике. 4 сентября 1887 г. в парижской газете «Курье франсе» была помещена карикатура под заголовком «Европейское равновесие», изображавшая аллегорическую фигуру до зубов вооруженной Франции в сопровождении русского медведя. Франция «делает нос» немецкому солдату. Влиятельная «Журналь де Деба», бывшая на протяжении почти всего XIX в. критиком России и сторонницей франко-английского альянса, теперь писала, что русско-французское сближение находит свое объяснение в родстве национальных характеров славян и французов. Даже республиканская пресса, неизменно критиковавшая царизм и выступавшая против альянса с Россией, не могла не учитывать усиления пророссийских настроений. Республиканская газета «Репюблик франсез» утверждала, что в отношении России и Франции нельзя увидеть ничего иного, кроме любви. Почти вся парижская пресса этого периода благоволила к России и выступала за скорейшее заключение российско-французского союза [5. P. 438-439]. Жак Летев на основе анализа материалов французской прессы приходит к выводу, что на рубеже XIX-XX вв. три страны оказались в фокусе внимания французов - Германия, Англия и Россия [6. P. 112]. При этом отношение к усиливающейся и все более напористой Германии было однозначно враждебным, что нашло отражение в многочисленных карикатурах. В Германии для массового сознания французов все было плохо - от немецкого пива до «варварской» музыки Вагнера. Отношение к Англии было более сложным: ее упрекали за то, что она не поддержала Францию во время франкопрусской войны, но были благодарны за содействие в создании Антанты. Представление о России во французском общественном мнении конца XIX в. эволюционировало «от безразличия к периоду большой симпатии» [6. P. 121]. 291 Трыков В.П. Путевые записки «Россия и русские» Виктора Тиссо Накануне заключения русско-французского альянса в 1891 г., вышел специальный номер журнала «Рёвю ансиклопедик» со статьями видных французских ученых Вандаля, Леже, Рамбо, Леруа-Больё о России. В номере содержались сведения о географии, истории, литературе и искусстве России, ее политическом устройстве. Все это свидетельствовало о растущем интересе как французских интеллектуалов, так и более широкой публики к России. В подготовке русско-французского альянса существенную роль сыграла и французская публицистика. Красноречивыми являются названия некоторых сочинений подобного рода, особенно в сравнении с названиями некоторых более ранних публицистических произведений о России, таких, например, как книга Жермен де Ланьи «Кнут и русские» (1853). В 1886 г. выходит книга Мариуса Вашона «Россия при свете солнца» (“La Russie au soleil”). В следующем году появляется в печати книга Мишеля Делина «Наши друзья, русские». Усиление Германии вызывало беспокойство и российских властей. И хотя Александр III скептически относился к республиканской Франции, он готов был к сближению с ней, чтобы уравновесить растущий вес и влияние Германии на европейском континенте. События развивались довольно стремительно. В 1891 г. Александр III наградил французского президента Сади Карно высшей наградой Российской империи - орденом св. Андрея Первозванного. В июле того же года состоялся визит в Кронштадт французской эскадры, которой был оказан теплый прием. Начались переговоры о заключении политического альянса между Россией и Францией. В 1893 г. состоялся ответный визит русской эскадры в порт Тулон. Русские моряки встретили радушный прием со стороны французов. В декабре 1893 г. был заключен военно-политический альянс между Россией и Францией. Договор был ратифицирован в 1894 г. «Вспоминается этот далекий год с его блестящими перспективами и обещаниями. Он завершил двадцать лет тягостной изоляции, которая последовала за 1871 годом. Союз с Россией, наконец-то заключенный, избавил от немецкой угрозы, и Франция, успокоенная, окрепшая, снова стала верить и надеяться», - писал Даниэль Галеви [7. P.18]. Эйфория, охватившая Францию в связи с заключением русскофранцузского альянса, нашла отражение в многочисленных стихотворных произведениях и песнях, в которых содержался отклик на 292 Имагология / Imagology это событие. Авторами некоторых стихотворений были известные французские поэты Ф.-А. Сюлли-Прюдом, Ж.-М. де Эредиа, Ф. Коп-пе, П. Дерулед. Французы вновь открыли для себя почти забытые к этому времени записки о Московии XVI в. Жана Соважа. Этот небольшой текст будет «столь же превознесен, сколь другие произведения о России XVI и XVII вв. раскритикованы» [8. C. 110]. В 1896 г. в Париже началось строительство моста Александра III. Яркой иллюстрацией этих новых тенденций и настроений во французском обществе стала книга путевых записок французского писателя швейцарского происхождения Виктора Тиссо (1845-1917) «Россия и русские» (1882), ставшая результатом его поездки в Россию в составе группы французских журналистов. К этому времени Тиссо был уже достаточно известным литератором. Известность ему принесла книга «Путешествие в страну миллиардов» (1874), в которой автор описывал свои впечатления о поездке в Пруссию и давал сатирическую картину ее жизни и нравов. За этим последовали другие произведения Тиссо в жанре путевых записок: «Вена и венская жизнь» (1878), «Путешествие в страну цыган. Неизвестная Венгрия» (1880). «Россия и русские» состоит из двух частей: «Малороссия» и «Великороссия». Композиция книги отражает базовую оппозицию, которая лежит в основе образа России у Тиссо: противопоставление двух миров - украинского и русского. Рассказчик-француз в вагоне поезда, который везет его в Россию, знакомится с малороссом, в уста которого автор вложил характеристики русских и украинцев, что должно было придать им больше убедительности: это были суждения славянина о славянах. Малоросс объясняет своему попутчику, что «кровь малороссов более чистая славянская, а московиты - результат смешения чуди, киргизов и татар» [9. P. 167]. Он добавляет, что «некоторые этнографы даже отказываются принимать русских в европейскую семью» [9. P. 167]. Представление о значимости кочевого азиатского элемента в русском характере становится особенно распространенным во Франции под влиянием трудов Адама Мицкевича и Сиприена Робера, опубликованных в конце 1840-х - начале 1850-х гг. Симпатии рассказчика-француза на стороне малороссов, которых он наделяет многочисленными преимуществами перед великороссами: певучим языком, колоритным костюмом, более привлекательной внешностью и воинственным духом, которого, с точки зрения по-293 Трыков В.П. Путевые записки «Россия и русские» Виктора Тиссо вествователя, лишены великороссы. Украинцы - дети роскошной природы Юга, сформировавшиеся под воздействием бескрайних степей и яркого солнца. Следуя теории Монтескье о влиянии климата на формирование национального характера, Тиссо отмечает, что малороссы отличаются живостью ума, чувствительностью, свободолюбием. Они добродушны, поэтичны и привязаны к своей земле. Напротив, сыны сурового Севера, великороссы, - кочевники, любители приключений, бродяги и пилигримы. В воображении рассказчика возникает поэтическая картина: «Украина! Земля бескрайних степей, уходящих за горизонт, прозрачных рек, великолепных равнин, богатых урожаев, ночей, освещаемых бриллиантами звезд, плодородный и прекрасный край, где казак, вольный как птица, несется галопом на своем черном коне, не ведая других повелителей, кроме молнии и ветра» [9. P. 133]. Это противопоставление Украины и России, Киева и Москвы, малороссов и великороссов могло иметь политический подтекст. Еще при Наполеоне I французский публицист и историк Александр-Морис Отрив (1754-1830) мечтал превратить Украину в независимое государство [5. P. 80]. Интерес и симпатия Тиссо к Украине столь велики, что он уделяет внимание некоторым явлениям украинской культуры: включает в повествование упоминания об украинских народных песнях и кобзарях (“kobzars”), рассказывает о нелегкой судьбе и творчестве Тараса Шевченко, отмечает, что «украинский язык более гармоничный, экспрессивный и образный, чем русский и польский» [9. P. 207]. Подобные «культурологические» экзерсисы Тиссо становятся особенно красноречивыми на фоне того равнодушия, с которым иностранцы, писавшие о России, на протяжении длительного времени относились к русской литературе и культуре. Поэтизация Малороссии объясняет урбанистические предпочтения Тиссо. Автор, как, пожалуй, никто до него, подробно описывает Киев1. Описание киевского рынка напоминает импрессионистиче- 1 Первое подробное исследование Украины этнографического характера на французском языке появилось в середине XVII в. Это была книга французского инженера, ставшего этнографом, Боплана «Описание Украины» (1651). В том же столетии появилось несколько трудов французских авторов о казаках [10. C. 30-32]. 294 Имагология / Imagology ские картины «Чрева Парижа» Э. Золя. Тиссо дает историческую справку об основании Киева, ссылаясь при этом на древнерусские летописи «славянского Геродота» Нестора1, рассказывает о драматических событиях истории города (осада и взятие Киева монголотатарами, присоединение к Польше, затем возвращение в состав Российской империи, страшный пожар 1811 г.), описывает архитектурные памятники города, прежде всего Святую Софию. Отдельная глава (глава XV «Религиозная жизнь») посвящена Киево-Печерской лавре, жизни ее монахов, паломников. Нельзя не отдать должное убежденному католику Тиссо, который до переезда во Францию в швейцарской Лозанне был редактором клерикальной газеты «Gazette de Lausanne», где высмеивал все, кроме католичества, и который с таким интересом, уважением и благожелательностью отнесся к религиозной жизни представителей другой конфессии. Киев для Тиссо «феерический город», центр восточного славянства, традиционной религиозности, поразивший рассказчика многочисленностью церквей с золотыми куполами, серебряными колокольнями. Город овеян преданиями, очаровывает своим теплом и светом. Контрастом теплому Киеву становится зимняя заснеженная, пустынная и холодная Москва. Если Киев предстает в книге Тиссо как идеализированный хранитель Святой Руси, прошлого, традиции и преданий, то Москва показана как средоточие настоящего, эпицентр современной российской жизни во всем ее многообразии и динамизме. Санкт-Петербург упоминается вскользь как онемеченный город, построенный Петром. «Москва - подлинная столица империи. Это законный оплот варварских и грозных царей, в то время как Санкт-Петербург - всего лишь незаконнорожденная столица (“une capitale batarde”), рожденная и вскормленная иностранкой - немецкой цивилизацией» [9. P. 397]. Несмотря на притягательность для автора Киева и его подробное описание, Москве уделено особое внимание. Рассказ о Киеве зани- 1 Первое двухтомное издание древнерусских летописей на французском языке под названием “La Chronique de Nestor” в переводе Луи Пари увидело свет в 1834-1835 гг., так что у Тиссо была возможность воспользоваться материалами этого издания. 295 Трыков В.П. Путевые записки «Россия и русские» Виктора Тиссо мает две главы, о Москве - девять. Повествование о центре Москвы включает в себя элементы путеводителя: описание впечатлений от памятников кремлевской архитектуры перемежается короткими историческими справками и комментариями, что создает более объемный образ Москвы как древнего города с богатой и драматической историей. Источники информации, на которые ссылается Тиссо, разнообразны и неравноценны: древнерусские летописи, сочинения авторитетных французских ученых-историков А. Рамбо, А. Леруа-Больё, предания и легенды, исторические анекдоты неясной этиологии, французские путеводители по Москве, народные песни. Зачастую приводятся цитаты из каких-то источников, которые не называются и не указываются в сносках. Образ парадной и исторической Москвы, города исторических и культурных памятников (Красной площади, Кремля с его архитектурными сооружениями, Большого театра и т.д.), дополняется образом Москвы современной, деловой, купеческой, торговой, с ее многочисленными ресторанами, трактирами, торговыми рядами. Целая глава посвящена подробному описанию Гостиного двора, который изображен как огромный восточный базар вблизи Красной площади с множеством живописных лавочек, разнообразных товаров. Рассказчик посещает детские приюты, тюрьмы, монастыри, лавки, злачные места, театры, ночлежки и т.д. Москва - современный европейский город, живущий разнообразной и активной жизнью. Не случайно именно Москву, а не официальную столицу Санкт-Петербург рассказчик сравнивает с Парижем: «Москва - зеркало России, подобно тому как Париж - зеркало мира» [9. P. 507]. В этом сопоставлении, несмотря на сходство двух столиц в известном отношении (динамизм и многообразие их жизни), Париж все-таки возвышается над Москвой как «зеркало мира», в то время как Москва остается лишь «зеркалом России». Здесь слышны отголоски неизбывного франкоцентризма, не преодоленного даже писателем рубежа веков. В повествовании Тиссо силен элемент эстетизации в духе Теофиля Готье, с книгой которого «Путешествие в Россию» он был знаком и которую характеризовал как «лирические и преувеличенные описания» [9. P. 551]. Тиссо, как и Готье, - мастер эстетизированных описаний. В его изображении Кремль больше похож на изысканное украшение, чем на крепостное сооружение. Тиссо часто сравнивает 296 Имагология / Imagology архитектурные памятники с драгоценными камнями. С высоты колокольни Ивана Великого рассказчик видит сотни колоколен, сверкающих на солнце как рубины, сапфиры и бриллианты, отсвечивающих разными красками, как тюльпаны и георгины. Заметив омнибус на одной из московских улиц, рассказчик передает его необычную окраску, странное сочетание желтого, голубого с ярко-красным или оранжевым. Создавая обобщенный словесный портрет русского мужика, Тиссо сосредоточивает внимание на цвете его глаз (фаянсово-голубых), белизне и крепости зубов, деталях костюма, длине волос и бород. Рассказчик аттестует себя художником, когда восклицает: «Какая радость для глаза художника встречать на каждом шагу этих бородатых и волосатых мужиков!» [9. P. 471]. Подобно Готье, Тиссо очарован поэзией снега и зимы, передает удивительные эффекты климатических преображений. Зима становится умелым художником, под кистью которого все преображается и приукрашивается. На Арбатской площади рассказчик видит со всех сторон золотые купола соборов, колокольни, кресты, «металлическую цепь которых снег преображает в длинное белое кружево или в серебряную филигрань» [9. P. 472]. Несомненно влияние импрессионизма на Тиссо. Он фиксирует цветовые оттенки домов, игру света, передает разное впечатление от одного и того же предмета в зависимости от того, где находится наблюдатель. В импрессионистической технике выполнено, например, описание собора Василия Блаженного. Сравнив его с индийскими пагодами, рассказчик далее замечает: «Если вы немного отойдете, впечатление изменится, и другое сравнение придет вам на ум - гигантская фарфоровая химера, привезенная в качестве военного трофея из сказочной страны голубых драконов . Но стоит вам снова приблизиться, и впечатление вновь изменится. Теперь это похоже на спаржу, поддерживающую круглую тыкву или на забавный дворец сказочного принца, правящего в царстве овощей» [9. P. 402-403]. Тиссо любит неожиданные метафоры: у него зимнее солнце - «старый холостяк в шерстяном колпаке», а голуби, взмывающие ввысь над куполами соборов, - «гирлянды роз, уносимых ветром» [9. P. 469]. Тиссо не только внимательный наблюдатель быта и нравов, но и художник-эстет, любующийся красотой незнакомого города. Рассказчик признает, что «панорама Москвы - одна из красивейших па-297 Трыков В.П. Путевые записки «Россия и русские» Виктора Тиссо норам в мире» [9. P. 444]. В отличие от Кюстина, автора популярного антироссийского памфлета «Россия в 1839 году» (1843), Тиссо не обличает, не морализирует, не пытается на основании отдельной детали сделать психологические умозаключения, дать емкие, лаконичные, афористичные формулы, но живописует, создает пластически выразительный, визуальный образ. При этом его рассказ лишен того брюзгливого тона, который был свойственен нарративу Кюстина. Покажем это на примере. Оба автора восхищены собором Василия Блаженного. Оба отмечают его удивительное своеобразие. Правда, Кюстин более сдержан в выражении своего чувства: «Собор Василия Блаженного, без сомнения, если не самая красивая, то уж во всяком случае самая своеобразная постройка в России. Я видел его лишь издали и совершенно очарован» [11. Т. 2. C. 65]. Ту же мысль Тиссо выражает с большей экспрессией, нанизывая конструкции с прилагательными в превосходной степени: «Самый оригинальный, самый забавный, самый безумный храм во всей России - это поразительный и неподражаемый собор Василия Блаженного» [9. P. 401]. Однако у Кюстина положительная оценка собора тотчас сменяется критическим комментарием обобщающего характера, касающимся русского народа в целом: «Нет сомнения, что страна, где подобное здание предназначено для молитвы, не Европа; это Индия, Персия, Китай, и люди, которые приходят поклониться богу в эту конфетную коробку, не христиане!» [11. Т. 2. С. 65]. Тиссо в свойственной ему манере чередует описание с историческим анекдотом: рассказчик излагает легенду об ослеплении создателя собора по приказу Ивана Грозного. Своеобразие нарративу Тиссо о Москве придает сочетание эстетизации с макабрическими и готическими мотивами, пронизывающими все повествование (подробное перечисление всех видов казней, которым подвергали в России при рассказе о Красной площади и Лобном месте, легенда об ослеплении архитектора собора Василия Блаженного, рассказ о том, как Иван Грозный перед смертью видит кровавую комету, картина скотобоен в московских пригородах, куда отправляется рассказчик, и подробное описание процесса забивания быков, образ палача Фролова, особенно зловещий на фоне портрета его миловидной молодой жены, мрачный экстерьер и интерьер подмосковной тюрьмы, которую посетил рассказчик, отвратительные, 298 Имагология / Imagology грубые, унижающие человеческое достоинство развлечения московских купцов и т.д.). Динамизм и разнообразие жизни европейского города Москва сочетает с азиатским «варварством». Азиатская тема в книге реализована и в описании причудливой архитектуры собора Василия Блаженного, и в рассказе об азиатской пышности ритуала церемонии коронации царя, и в сравнении терема для женщин в кремлевских дворцах с гаремами, и в констатации, что вооружение русских воинов «было некогда совершенно азиатским», и в оценке Кремля как «цитадели какого-то азиатского деспота» [9. P. 445]. Макабрический и готический элементы в образе Москвы усиливают эту семантику «азиатскости» и «варварства». Москва, как и вся Россия, у Тиссо ассоциируется со сказкой, предстает зачастую причудливой игрой воображения. Автор неоднократно использует эпитет «феерический»: при описании вида, открывающегося с колокольни Ивана Великого на Москву, который охарактеризован как «феерическое зрелище» [9. P. 420], при характеристике «феерического великолепия» [9. P. 395] Оружейной палаты. Купола церквей блестят в магическом свете луны, как «сокровища страны фей» [9. P. 395]. Кремль с его красными стенами и зелеными шатрами похож на замок из волшебной сказки [9. P. 443]. Многоцветье и разнообразие Москвы нравится рассказчику больше, чем однообразная правильность Санкт-Петербурга. Ему нравятся широкие, просторные красивые московские улицы, по сравнению с которыми, как он замечает, avenue d’Opera мог бы показаться небольшой улочкой, но особую прелесть в глазах рассказчика им придает то, что на них рядом с роскошными особняками можно увидеть деревянные лачуги, избы с маленькими окошками без занавесок. Та же оппозиция петербургского однообразия, европейскости и московской экзотики положена в основу описания и оценки одежды русских. Рассказчик замечает, что «в Санкт-Петербурге французские и немецкие портные произвели ужасное опустошение в области костюмов», в то время как на московских улицах «столько выразительных и оригинальных нарядов!» [9. P. 470]. Обычай совместного мытья в бане мужчин и женщин накануне праздников не вызывает у рассказчика, в отличие от его многочисленных предшественников, ни насмешки, ни морального осуж-299 Трыков В.П. Путевые записки «Россия и русские» Виктора Тиссо дения, истолкован как очистительная процедура. Вообще «русская народная баня - любопытное зрелище, исполненное местного колорита (“plein de couleur locale”)» [9. P. 504]. Тиссо, как и Жермена де Сталь, обнаруживает романтическое пристрастие ко всему грандиозному, экзотическому, необычному, разнообразному. Повторяет Тиссо и уже неоднократно до него высказывавшуюся мысль о сочетании европейского и азиатского начал в России. Именно поэтому Москва предстает у Тиссо как город, выражающий дух всей страны: «Тот, кто не бродил по московским улицам, никогда не поймет России. Во всем здесь царит контраст: в костюмах, нравах, в истории русского народа. Азия здесь встречается с Европой и зачастую европейский и азиатский элементы смешиваются» [9. P. 496]. Ту же мысль призвано выразить в тесте и сопоставление двух разных восприятий Москвы людьми, принадлежащими разным культурам: рассказчик сообщает, что французские солдаты, стоявшие у стен Кремля и впервые видевшие «святую столицу», спрашивали себя, не в Индию ли привел их Наполеон. Русские паломники, перед взором которых вдруг открывалась «белокаменная», Кремль и золотой крест колокольни Ивана Великого, падали ниц, становились на колени и трижды осеняли себя крестным знамением. «Священное почтение переполняло их душу и сердце, охваченные любовью и похожие на переполненную чашу» [9. P. 444-445]. Однако оценив по достоинству восточный колорит Москвы, рассказчик с особой тщательностью и удовольствием фиксирует проникновение европейского (прежде всего, конечно, французского) начала в русский быт, нравы, повседневную жизнь москвичей: это и успешный французский ресторатор мсьё Оливье держит в Москве ресторан «Эрмитаж», пользующийся успехом, на площади на Сретенке, где стоит Сухаревская башня, и большой рынок, где продаются среди прочих товаров книги Вольтера, Лафонтена, Боссюэ, Бюф-фона, и многочисленные вывески на французском языке в Москве, и многочисленная французская диаспора в Москве, пользующаяся заслуженным уважением русских, и т. д. Описывая богатый московский особняк, рассказчик поражен его великолепием, фресками и полотнами великих мастеров, множеством изящных безделушек. Он восклицает: «Эти варвары более цивилизованы и более утончены, чем мы! Они жуиры, гурманы и эрудиты» [9. P. 474]. 300 Имагология / Imagology Однако для рассказчика-француза восточная экзотика хороша до известного предела, пока она не оскорбляет французский вкус и чувство меры. Показателен в этом отношении финальный эпизод книги, рассказ о поездке группы французов к цыганам в подмосковную Стрельну. Русская тройка мчит рассказчика и его друзей через зимнюю ночь и заснеженную равнину к цыганам. Эта картина, несомненно, должна была вызывать в воображении образованного читателя, знакомого с русской литературой, ассоциации с символическим образом гоголевской тройки (заметим, что имя Гоголя упоминается на страницах книги). Однако не только гоголевская метафора России-тройки была составной частью образа России, каким он сложился в сознании Тиссо. Другой важный его компонент - цыгане. Рассказчик говорит, что «место, куда мы направлялись, отчасти мифологично» [9. P. 550]. Выясняется, что миф о цыганах и цыганском пении создали писатели-предшественники (Т. Готье, Фервак), которых рассказчик упрекает в том, что они подменили реальность плодами своего воображения [9. P. 551]. Основываясь на описаниях предшественников, он ожидал чего-то чудесного, невиданного, роскошного, «фееричного» (снова это многократное “feerique”). «Разочарование было глубоким и полным», - признается рассказчик [9. P. 551]. Вместо роскошных интерьеров - отель третьего класса с потертыми креслами, вместо романтичных и красивых «свободных дочерей степей» - уродливые цыганки в вышедших из моды нарядах. Более всего разочаровало его знаменитое цыганское пение. «Это беспорядочные мелодии, не соответствующие никаким правилам, никаким условностям музыкального искусства. Они вызывают возбуждение, необходимое, чтобы вывести русского из его оцепенения, чтобы встряхнуть его, обжечь его душу, как водка обжигает его горло» [9. P. 553]. Французу претит «лихорадочная атмосфера» (atmosphere de malaria») цыганского представления [9. P. 552]. В одержимости русских цыганскими песнями и танцами он видит проявление азиатского элемента русской души: «они переносят русских в райские сады Магомета и в полные неги азиатские дворцы...» [9. P. 554]. В сущности перед нами взгляд и оценка благоразумного и ограниченного европейского буржуа, превыше всего ценящего комфорт, роскошь, моду и, конечно, здравый смысл и основанные на нем пра-301 Трыков В.П. Путевые записки «Россия и русские» Виктора Тиссо вила, как этетические, так и моральные. В названии этой заключительной главы «Добропорядочные люди встречают рассвет» («Les gens vertueux voient lever l’aurore») содержится латентная оппозиция: «добропорядочные» и благоразумные французы, не поддавшиеся чарам цыганских сирен, противопоставлены русским с их «беспорядочным воображением» («’imagination incoherente») [9. P. 555]. Визит к цыганам - кульминация повествования. Окунувшись в чуждую ему, горячечную, лихорадочную атмосферу цыганского табора, рассказчик на рассвете спешно покидает Стрельну. Тройка уносит его в утренний снежный туман. Холод, снег, бескрайние заснеженные просторы, купола московских церквей на горизонте контрастируют с камерной, тепличной атмосферой цыганского отеля. Финальная картина символизирует причудливое соединение Европы и Азии в русской столице и русской душе. Завершающим аккордом становятся слова, которые шепчет рассказчик, погружающийся в дремоту: «Странная страна, страна контрастов и тайны!» [9. P. 555]. Для Тиссо, как и для его современника Вогюэ, который в те же годы, когда Тиссо публикует свои записки, печатает в «Рёвю де дё монд» эссе о русских писателях, составивших впоследствии книгу «Русский роман» (1886), «русская душа» остается загадкой. Если Вогюэ пытался разгадать эту загадку, вчитываясь в произведения русских писателей, то Тиссо - созерцая и изучая Москву, ее быт и нравы. Увиденная взглядом заинтересованного, любопытствующего созерцателя-художника, «дилетанта», жадного до новых эстетических впечатлений и художественных ощущений, описанная прекрасным рассказчиком, который сочетает «импрессионистичность» и пластическую выразительность описаний в стиле Т. Готье с информативностью повествования и с динамичностью и занимательностью рассказа в духе А. Дюма, Москва предстала современным, открытым европейским городом, живущим бурной, динамичной жизнью, но со своим особым колоритом. Тиссо проявил заинтересованное и уважительное отношение к русскому «Другому». Он стремится развенчать миф о закрытости России, в создании которого особенно значительную роль сыграли парижская пресса и Кюстин. Тис-со обращается к читателям с призывом: «Вам говорили, что Россия -закрытая страна. Не верьте этому. Я не знаю места более гостепри-302 Имагология / Imagology имного и открытого. Все, что я хотел увидеть, я увидел, и мне показали даже гораздо больше, чем я просил» [9. P. 507-508]. Одновременно «лирическим и гиперболическим описаниям» Теофиля Готье Тиссо стремился противопоставить более «реалистический» образ Москвы и России. Отчасти ему это удается за счет расширения сферы изображаемого: в поле зрения рассказчика попадает не только парадная и историческая Москва, но и Москва торговая, современная, «низовая», Москва ночлежек, приютов, публичных домов, кабаков, рынков и торговых лавочек и т.д. Однако, разрушая «эстетский» миф Т. Готье о России, Тиссо создал собственный, противопоставив в значительной степени под влиянием идей Адама Мицкевича и Сиприена Робера Москве Киев, Великороссии -Малороссию как хранительницу исконной «славянскости». Тиссо, как и Вогюэ, внес заметный вклад в создание в целом позитивного образа России в преддверии заключения русскофранцузского альянса. Как и Вогюэ, он видит Россию страной «загадочной», «странной», но не враждебной, не «варварской», и, безусловно, заслуживающей пристального внимания и изучения.
Малинова О.Ю. Россия и «Запад» в XX веке: Трансформация дискурса о коллективной идентичности. М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. 190 с.
Хобсбаум Э. Век Империи.1875-1914. Ростов н/Д : Феникс, 1999. 512 с.
Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории. СПб. : Наука, 1993. 480 с.
Коукер К. Сумерки Запада. М. : Московская школа политических исследований, 2000. 272 с.
Corbet Ch. A l’ere des nationalismes. L’Opinion franjaise face a l’inconnue russe (1799-1894). Paris : Didier, 1967. 490 p.
Letheve J. La caricature et la presse sous la ІІІ-e Republique. Paris : Armand Colin, 1961. 271 p.
Halevy D. Charles Peguy et les Cahiers de la Quinzaine. Paris : Payot, 1919. 255 p.
Виане Б. Tout autour du voyage de Jean Sauvage en Moscovie en 1586. Путешествие Жана Соважа в Московию в 1586 году. М. : Тезаурус, 2014. 512 с.
Tissot V. La Russie et les Russes. Indiscretions de voyage. Paris : Dentu, 1882. 562 p.
Алексеев М.П. Русская тема в европейской литературе : сб. статей и материалов. СПб. : Нестор-История, 2019. 528 с.
Кюстин А. де. Россия в 1839 году : в 2 т. М. : Изд-во имени Сабашниковых, 1996. Т. 2. 480 с
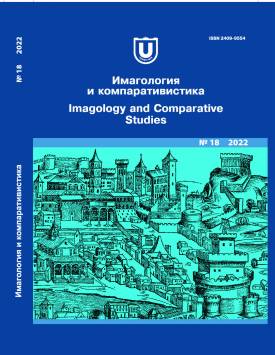

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью