Север как Запад: литературный образ Карелии и практики позднесоветской вненаходимости
Статья рассматривает особенности литературной репрезентации Карелии в позднесоветской литературе. К исследованию привлекаются тексты Ю. Казакова, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Л. Озерова и др., написанные по мотивам поездок в Карелию в 19601980 гг. Для авторов, приезжавших из других регионов, значимыми часто становились такие исторические и культурные особенности края, как двуязычие, диалог культур, европейское влияние, а само путешествие в Карелию сближалось с практиками вненаходимости (термин А. Юрчака). Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
North as West: The literary image of Karelia and the late Soviet outsideness practice.pdf О значении Севера для русской литературы в XX в. к настоящему моменту написано немало. Путешествия и рабочие поездки многочисленных писателей на Север со времен Михаила Пришвина вели к появлению большого корпуса разножанровых текстов, которые сейчас привлекают внимание исследователей - историков, антропологов, литературоведов. В разные периоды и в оптике разных авторов Север по-разному выглядит, осмысляется и, стало быть, изображается. Он может быть представлен как «край непуганых птиц» (М. Пришвин), «век и миг» (В. Шаламов), «проклятый Север» (Ю. Казаков) или «милый север» (О. Фокина) и т.п. Разнообразие эпитетов и характеристик может быть обусловлено не только особенностями индивидуальной авторской картины мира, но и многообразием северных территорий: среди локусов Севера есть много очень разных, демонстрирующих различия в истории, культуре, материальном наследии и, в конечном итоге, приобретенных в литературе и искусстве символических и ценностных значениях. Северовосток в этом смысле может значительно отличаться от северозапада, Сибирь от Гренландии и т.п. Одно из таких символических значений можно наблюдать на примере карельского текста русской литературы XX в. Это значение может быть, с нашей точки зрения, эксплицировано с привлечением некоторых терминов аналитического языка, предложенного Алексеем Юрчаком для описания позднесоветской действительности («вненаходимость», «воображаемый Запад») [1. C. 267-268, 311-314]. «Вненаходимостью» А. Юрчак назвал в своей монографии такое положение советского человека по отношению к государственной системе, когда тот обустраивает свою частную жизнь, как бы ускользая от действия механизмов власти и в то же время не восставая против них открыто, часто принимая их как данность или разделяя общие принципы идеологической системы [1. C. 267-268]. Концепция Юрчака, нацеленная на преодоление схематизирующих оппозиций «человек-система», «советское-антисоветское», позволила впервые обратиться к особенностям жизни позднесоветских поколений, насыщенной многими интересными явлениями и практиками частной жизни, до того остававшимися в тени. Материалом для исследования Юрчака стали главным образом интервью представителей позднесоветской эпохи, мемуары, материалы СМИ и тому по-348 Имагология / Imagology добные документальные свидетельства. В настоящей статье мы обратимся к литературным текстам, которые, с нашей точки зрения, фиксируют важные тенденции своего времени и в этом смысле могут быть интересны с имагологической точки зрения не менее, чем с собственно художественной. По крайней мере, когда речь идет о так называемой реалистической литературе, какой в целом была советская литература 1960-1980-х гг. Описывая общую картину позднесоветских практик вненаходи-мости, Юрчак справедливо, с нашей точки зрения, включил в поле зрения и пространственные перемещения советских граждан, помогавшие тем локальным сдвигам в повседневном существовании, из которых складывался более масштабный «перформативный сдвиг» позднего социализма: «К этим интересам и видам деятельности относились занятия иностранными языками и восточной философией, чтение средневековой поэзии и романов Хемингуэя, увлечение астрономией и научной фантастикой, слушание авангардного джаза и песен про пиратов, увлечение альпинизмом, геологическими экспедициями и туристическими походами» [1. С. 315]. Упомянутые в финале три разных типа путешествий, надо отметить, были частью той культуры, которая сложилась в СССР в период «оттепели», когда после нескольких десятилетий очень статичного положения советского человека в пространстве открылась возможность к передвижению и все сдвинулось с места: «Глоток свободы после десятилетий заточения пьянил, рождал надежды, “оттепель” растопила паковые льды, и жизнь пришла в движение. Движение - главная черта общественной жизни - стало и одной из главных черт литературы поколения, пришедшего к поре своего становления в эту эпоху» [2. С. 8]. Или ср. у Д. Азере: «Динамика охватывает все уровни человеческого существования: от разрушения догматических рамок в сознании до внешнего физического перемещения в пространстве. Фундаментальная идея “оттепели” - построение нового гармоничного социализма - реализуется и через освоение необъятного чистого пространства, во второй половине 50-х гг. XX в. в Советском Союзе происходит массовое переселение строителей будущего на просторы Сибири и Дальнего Севера, там, в суровом контексте природы и формируется образ нового советского человек» [3. С. 75]. Один из авторов журнала «Новый мир» в связи с этим писал в 1961 г. так: 349 Шилова Н.Л. Север как Запад: литературный образ Карелии «Иногда кажется, что все поэты куда-то разъехались, и в Москве, Ленинграде стихов теперь больше не пишут, а пишут их преимущественно в тайге, и в тундре, и в русской поэзии наступил кочевой период» (цит. по: [4]). Литературные сюжеты, рассмотренные нами далее, будут связаны с путешествиями писателей в Карелию. В целом, такие путешествия мало чем отличались от туристических и рекреационных поездок других категорий граждан, кроме только того, что оставили по себе письменные тексты, фиксирующие особенности восприятия Карелии как края. С конца 1950-х гг. в Карелии побывали многие значимые фигуры литературы «оттепели» - Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Юрий Казаков. Роберт Рождественский несколько лет жил в Петрозаводске, прежде чем уехал в Москву [5. С. 87]. Белла Ахмадулина любила приезжать в 1980-е гг. в Сортавала [6. С. 57]. Хотя у известных и успешных советских писателей была возможность выезжать за границу, все-таки качественно и количественно и для них здесь было много ограничений. Зато большой популярностью пользовались маршруты в союзные республики - в Прибалтику, на Кавказ, в Закавказье и т.п. Можно предположить, что популярность этих маршрутов во многом определялась тем, как они удовлетворяли важное требование к путешествию - пересечение семантических и ценностных границ, если пользоваться терминологией Юрия Лотмана [7. С. 282], другими словами, знакомство с иным, выход за пределы своего, знакомого. Спецификой этих территорий, однако, было то, что они при этом оставались и своими в географическом, политическом, идеологическом смысле. Это зачастую была иная национальная культура, но своя страна. Здесь не требовалось виз и разрешений, можно было свободно передвигаться, говорить на родном языке, платить рублями и пр. И повседневная жизнь этих территорий объединяла свое и чужое по принципу дополнения, как дополняли друг друга в повседневной жизни союзных республик русский и национальный языки. Как отмечает тот же А. Юрчак, «многонациональность и многоязыкость определения “советский” проявлялись в реальной любви к грузинской кухне и среднеазиатскому плову, Рижскому взморью и побережью Крыма, улочкам Одессы и Таллина, набережным Ленинграда и рынкам Самарканда, горам Кавказа и озеру Иссык-Куль. Все это подогревалось официально распростра-350 Имагология / Imagology няемой идеологией равенства и дружбы различных национальных групп, что в основном соответствовало личному опыту большинства советских граждан позднесоветского периода» [1. С. 312]. Карелия в этом отношении, имея статус автономной республики, в середине XX в. благодаря своей истории и географическому положению оставалась территорией активного взаимодействия русской и финно-угорской культур. Анализируя топосы в литературной репрезентации Карелии, И.А. Разумова в своем очерке карельского текста русской культуры конспективно, но упомянула эту его заметную черту: «Обобщенно говоря, Карелия - “страна у великой земли на краю” (Т. Гуттари). Это и реально пограничная территория, так что “граница” - весьма частый образ в литературе» [8. С. 109]. Примеры «пограничности» исследовательница встретила в очерках путешественников и поэзии финноязычных советских авторов [8. С. 109]. Ср., например, Пришвина в очерке «Лес, вода и камень» из книги «В краю непуганых птиц» (1907): «Кому же жить в этом мрачном краю леса, воды и камня, - писал М.М. Пришвин, - среди угрюмых елей и мертвых богатств золота и серебра? Казалось бы, что тихие, молчаливые, невзрачные финны более других народов могли бы примириться с этой жестокой средой, приютиться где-нибудь между озерами, скалами, лесами и медленно, упорно, молчаливо приспособлять себя к природе и природу к себе. Но финну жить здесь не пришлось, его место заняли славяне» (цит. по: [8. С. 110-111]). В 1960-е гг. карело-финский мир являл себя советскому путешественнику в экзотических для среднерусского уха топонимах (Сортавала, Калевала, Кондопога, Кижи и пр.), на улицах можно было слышать живую речь на финском и карельском языках, двуязычными были многие вывески магазинов и государственных учреждений и т.п. В этом смысле Карелия напоминала Прибалтику, которую в советское время называли «наша заграница». При таком словоупотреблении в понятии «заграница» происходил смысловой сдвиг, оно обозначало «не границу и не реальную территорию, а воображаемое пространство - одновременно реальное и абстрактное, знакомое и недосягаемое, обыденное и экзотическое, находящееся и здесь, и там» (курсив автора. - Н.Ш.) [1. С. 312]. Именно такой образ Карелии создает, например, очерк Юрия Казакова «Калевала», вошедший в состав его «Северного дневника». 351 Шилова Н.Л. Север как Запад: литературный образ Карелии Очерк рассказывает о путешествии Казакова в Ухту в гости к карельскому писателю Ортье Степанову в 1961 г. [9. С. 115]. Это не было первой поездкой Казакова в Карелию. Осенью 1959 г. он приезжал в Петрозаводск и на остров Кижи, вдохновленный карельскими текстами Паустовского. Заметная особенность очерка «Калевала» на фоне других северных текстов Казакова, главным образом, написанных на Белом море и о поморах, - это погружение в финноязычный мир. Местный языковой колорит много раз подчеркнут в повествовании: « дорога шла то в гору, то под гору, час проходил за часом, народ в автобусе менялся, говорили кругом уже по-фински, пахли все лесом, годами не снимаемой закоженелой одежей, мокрыми платками и фуражками, на полу поскрипывали уже пестери и корзины с морошкой, черникой...» [10. С. 134], «Не понимаю я по-фински, но слушаю жадно - такой это прекрасный, звучный язык, сдвоенные гласные и согласные...» [10. С.136], «Он что-то говорит по-фински Татьяне Перттунен. Потом опять мне » [10. С. 138], «И у Михеевой не говорят по-русски, и мне досадно, так хочется поговорить, расспросить, остается одно, пока они радуются, перебивают друг друга, - смотреть» [10. С. 140] и т.д. Упомянутая в очерке Татьяна Алексеевна Перттунен (18831963) - знаменитая сказительница, исполнительница рун и карельских народных песен, жена правнука легендарного Архиппы Перт-тунена, от которого Леннрот записывал руны «Калевалы». В очерке Казаков неточно называет ее правнучкой рунопевца. Вместе с ней и с Ортьё Степановым Казаков едет на озеро Ала-ярви в гости к другой сказительнице Марии Михеевой (1884-1969). Татьяне Перттунен посвящено больше всего внимания в очерке: «Восемьдесят лет этой Перттунен, даже, наверно, больше, она сказительница, и хоть лицо у нее, как у всех старух - и морщины там, рот запал, глаза повыцвели, - а все-таки присутствует в этом лице еще что-то: гордость ли, сознание ли собственного достоинства, или важности своей жизни, или известности, почета, каким она тут верно окружена Она совсем не говорит по-русски, на меня не смотрит и ко мне не обращается, да и с Ортье говорит мало, больше раздумывает о чем-то. Живет она одна - сама косит, гребет сено, ловит рыбу, ездит на острова за ягодой и грибами - словом, делает всю необходимую тяжелую 352 Имагология / Imagology мужицкую работу, без которой тут не проживешь. Но ведь восемьдесят лет!» [10. С. 136-137]. Кульминационная часть «Калевалы» - эпизод, в котором старухи-сказительницы по приезду в священную рощу на мысу на отдыхе у костра поют руны. Пению Перттунен и здесь уделено больше всего внимания: Раздаются первые звуки ее невыразительного голоса, выговариваются торопливо первые слова, неустойчиво выпевается еще неуловимая на слух мелодия. Да! Она и не поет еще, а говорит речитативом, скоро несется, как ручей в лесу с его разнообразным, высоким и низким бульканьем. Но лицо ее уже преобразилось - глаза сведены в одну точку, пальцы двигаются, скрючиваются и распускаются, голова вздрагивает и откидывается, глаза поднимаются на сосны, на даль озера, но тотчас опускаются. Иногда она повысит голос, нахмурит брови, вскрикнет грозное и поднимает руку, угрожая, но тут же и сникнет, забормочет, раскачиваясь, что-то жалобное. Каикиппа ноуси кууломаа метсяста метсян еелаваа... Вот что приблизительно слышу я на свой русский слух. Ортье кое-как успевает шепотом переводить мне обрывки руны, и я чувствую, как мороз медленными волнами проходит у меня по спине, и дыхание стесняется [10. С. 141-142]. В этих фрагментах очень заметно, что карельская земля воспринимается писателем как часть иной культуры, экзотичный мир, таинственный, если не герметичный, для современного человека. Усиливается это впечатлением от древних рун, поющихся на незнакомом языке. Экзотизм этот одновременно и пространственный, и временной. В этом смысле путешествие на Север почти всегда было путешествием не только в пространстве, но и во времени. Север во многих рассказах и очерках 1960-х гг. - заповедник древностей, путешествие сюда - движение к старине, в том числе фольклорной и древнерусской. В каноне «лирического ландшафта» Карелии к этому моменту прочно установились черты архаичности и традиционализ-353 Шилова Н.Л. Север как Запад: литературный образ Карелии ма [11]. Ср. в очерке Льва Озерова «Онежская быль» о карельском поэте Сысойкове: «В глазах Сысойкова - отсветы карельских озер. В речи его - неторопливость северянина. Переход от обыденных слов к стиху дает почувствовать: речь течет плавно, размеренно, точно былина поется» [12. С. 64]. Это в целом общее место литературной репрезентации Карелии - ее былинность, консерватизм, сохранивший черты древнерусской культуры, вкупе с языковым экзотизмом создавал для героя поле внеположности, вненаходимости по отношению ко всякого рода злобе дня - от бытовой до идеологической1. В некоторых карельских сюжетах позднесоветской литературы эти мотивы - путешествия в пространстве и во времени - могли контаминироваться. Особенно заметно это в лирических текстах, которые по природе своей тяготеют к концентрической форме. В качестве примера приведем стихотворение Виктора Старкова 1970 г., посвященное ландшафту острова Кижи, в котором сочетаются мотивы буддизма, модернистской живописи, древнерусского зодчества, православия и даже, возможно, египетских пирамид: Я рисовал Кижи издалека. В вечерних сумерках они казались буддийским храмом, темным кипарисом ван-гоговского нервного письма. Я пирамиду вычертил. Потомкам Вписал в нее темнеющую массу собора Кижского и понял вдруг, на что Кижи действительно похожи. Конечно же, на колос русской ржи, в котором купола подобны зернам с торчащими, как усики, крестами... Недаром в небо тянутся Кижи [13. С. 130]. 1 Ср. у Юрчака характеристику «идей и тем, способствовавших созданию особых отношений вненаходимости внутри системы, - античной истории и иностранной литературы, досоветской архитектуры и поэзии Серебряного века , буддистской философией и православной религией, туристскими походами и альпинизмом» [1. С. 300]. 354 Имагология / Imagology Образная система рисует движение от условно чужого - буддийского храма, вангоговских кипарисов - к тоже довольно условному своему - колосу русской ржи. Чужое здесь условно потому, что выход за пределы своей культуры был очень свойствен эстетике оттепели с ее интернационализмом. Свое условно потому, что «колос русской ржи» символ, может быть, не самый очевидный и характерный для кижского ландшафта, не первое, что о нем вспоминается. Хотя рожь, конечно, на Севере выращивали, и со слов сотрудников музея «Кижи» в 1970-е гг. поля ржи еще можно было увидеть на острове воочию [14. С. 3], образ ржаного поля не специфичен для кижского ландшафта и скорее отмечен обобщенностью, абстрактностью некоего поэтического топоса. Символы вненаходимости, инаковости, в том числе черты «воображаемого Запада» по-разному присутствовали в текстах разных авторов. В очерке Льва Озерова о Карелии финно-угорских мотивов, например, фактически нет. А в «Калевале» Казакова их чрезвычайно много. В его же рассказе «Адам и Ева» легко идентифицировать и город, и остров, где разворачивается сюжет, хотя они не названы прямо, по этим финно-угорским мотивам. Например, в рассказе выразителен образ официантки Жанны Юоналайнен, говорящей с финским акцентом и использующей местную лексику: она называет озеро «ярви» (это слово неоднократно встречается и в «Калевале»). Рыбак в другом эпизоде использует слово «салма» («салми») - финское «залив»: «Как из салмы выйдешь, налево забирай, мимо маяка. Увидишь остров, к нему и правь» [15. С. 273]. Это особенно заметно на фоне других очерков и рассказов о Кижах 1960-1970 гг., в которых авторы-современники Казакова легко обходятся без специфических карельских реалий или топонимов, сосредоточиваясь на более общем севернорусском контексте. Хотя само понятие «севернорусского человека», как отмечает И.А. Разумова, «совмещает в себе “скандинавские” и “славянские” признаки» [8. С. 111]. Рассредоточенные по текстам мотивы путешествия во времени и пространстве, иноязычия, экзотичности заставляют обратить внимание и на необычный финал очерка Казакова «Калевала», где он подводит итог своим размышлениям об особенностях карельской земли и ее перспективах: 355 Шилова Н.Л. Север как Запад: литературный образ Карелии И когда поднимаемся, когда начинает овевать нас теплый нежный ветер, когда кругом видна, кажется, вся страна с синими озерами, с нагромождениями камней и маленькими редкими деревеньками, - я думаю: придет время, и ничего этого не будет, не станет дикости, пустынности, на берегах озер возникнут стеклянные дома - тут ведь особенно любят свет! - и побегут шелковистые розовые, и желтые, и голубые дороги, и среди лесов будут краснеть острые черепичные крыши ферм, отелей и городов - тогда забудется многое, забудется бедность, приниженность избушек, бездорожье, одно не забудется - не забудется Калевала и великий дух Вяйнемейнена, осеняющий эту прекрасную страну, и имена сказителей, несших этот дух сквозь столетия [10. С. 144]. Среди типичных для карельского ландшафта и неоднократно воспетых в литературе озер, лесов и камней появляются футуристические стеклянные дома и красные черепичные крыши, напоминающие о традиционной европейской архитектуре. А слово «отель» совершенно точно не из советского быта. Утопическая Карелия будущего у Казакова больше похожа на процветающую европейскую страну, причем даже не на ближайшие Скандинавские страны, в которых Казаков не бывал, а скорее на сконструированное по фильмам и книгам представление о Западе, которое Андрей Юрчак назвал в своем исследовании «воображаемый Запад» [1. С. 311-314]. С некоторыми чертами Прибалтики, куда Казаков любил ездить в дом писателей в Дубулты с конца 1950-х гг. [16. С. 81]. Здесь, наверное, важно, что незадолго до путешествия в Ухту (лето 1961 г.), в мае состоялась первая поездка Казакова за границу, в Чехословакию [16. С. 265]. Не исключено, что первые европейские впечатления ярче проявили «европейскость» Карелии, а из чешских впечатлений мигрировали в карельский текст красные черепичные крыши. Для чешского ландшафта это как раз характерная черта. Но контаминация в итоге получилась очень любопытная. Примечательно, что в последовавшей за визитом в Карелию перепиской Казакова с Ортье Степановым как нигде больше в сохранившихся письмах Казакова много упоминаний зарубежных публикаций автора. Очерк «Калевала» все время оказывается здесь в контексте международных литературных связей. 9 марта 1963 г.: «Пере-356 Имагология / Imagology дайте Перттунен, что очерк о ней выходил в Финляндии, Норвегии, сейчас переводится в Швеции и еще на английский язык (журнал “Сов. Литература” на английском языке). Я очень рад такому обороту дела, не зря ездил к вам в Ухту». Или: «Может быть, тебе небезынтересно будет узнать, что “Калевала” моя обошла чуть не весь мир, переведена была на множество языков, и совсем недавно была напечатана во Франции в юбилейном тысячном номере знаменитого литературного приложения “Фигаро литерер”. Из иностранных авторов в этом номере присутствуют только два: американец Фолкнер и я. Видишь, какая штука получилась с Калевалой-то. Поистине счастливо было для меня то лето в далёком 1961 году» [9. C. 117]. Интересный эффект. Физически, географически Казаков в своей поездке в Карелию 1961 г. оставался в границах СССР, но пережил эту поездку как пересечение культурной и языковой границы, сближающей ее с заграничными путешествиями. Как мы видим, если в очерках Пришвина карельская земля хранила лишь некоторые черты финской культуры, уже к началу XX в. отошедшие в область прошлого, скорее даже память о ней, то в очерке Казакова этот язык и эти реалии - часть карельского настоящего и даже будущего. В некоторой степени разница обусловлена различием маршрутов: у Пришвина это Повенец и Выговский край, земля русских поморов, Калевала Казакова - исторически часть финно-угорского мира и титульный топоним карело-финского эпоса, записанного Элиасом Леннротом. Но ведь и маршруты формируются не случайно. Хорошо знакомый с книгами Пришвина, много уже написавший о Белом море, Казаков в этой своей поездке выбирает новую траекторию, неосвоенную его любимыми Пришвиным, Паустовским, по-настоящему пограничную. Любопытно, как это коррелирует с маршрутами других авторов поколения «оттепели» -А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной. Об этом чуть ниже. Пока же отметим, что явного противопоставления Карелии общему укладу советской действительности у Казакова нет, как это могло быть у более молодых и политически вовлеченных диссидентов. Ср., например, характерное воспоминание Виктора Ерофеева в мемуарном фрагменте, где говорится о юношеских контактах с семьёй филолога К. Чистова, жившего тогда в Петрозаводске (период 1946-1961 гг.), и поездке в Карелию: «Я съездил в Петрозаводск, в Кижи - я готов 357 Шилова Н.Л. Север как Запад: литературный образ Карелии был любить святую Русь, авангард, интеллигенцию, французский сыр - все, что угодно, кроме советской действительности и моей жизни с бабушкой» [18. С. 653]. Петрозаводск и Кижи в приведенном фрагменте оказываются в одном ряду авангардом и французским сыром и недвусмысленно противопоставлены «системе» и идеологии СССР. Это, пожалуй, единственный известный нам пример такого рода, но такое восприятие, как мы видим, тоже зафиксировано в литературе. Хотя имеет смысл обратить внимание на то, что мемуары Виктора Ерофеева были опубликованы после 1990-х гг., а это коррелирует с наблюдением А. Юрчака о том, что об одних и тех же процессах дневники 1970-1980-х гг. и более поздние мемуары 1990-х гг. рассказывают и интерпретируют их по-разному, последние - более радикально и критично [1. С. 42-43]. Цитата из Виктора Ерофеева, еще раз отметим, мемуарная. Сформулирована позже, вдогонку уже уходящей эпохе. В текстах 1960-х гг. такой чеканной формулировки и рефлексии нет, но сами процессы появления смысловых сдвигов уже хорошо видны в том числе на примере карельских сюжетов Андрея Вознесенского и Беллы Ахмадулиной. Так, герой и героиня стихотворения Вознесенского «Киж-озеро» (1962) прячутся и обретают свободу на далеком острове: ... надоело прятаться и мучиться, лживые обрыдли стеллажи, люди мы - не электроужи, от шпионов, от домашней лжи нас с тобой упрятали Кижи. Спят Кижи, как совы на нашесте, ворожбы, пожарища, нашествия, Мы свежи -как заросли и воды, оккупированные свободой! Кыш, Кижи... 358 Имагология / Imagology ...а где-нибудь на Каме два подобья наших с рюкзаками, он, она и все их багажи, убежали и - недосягаемы. Через всю Россию ночниками их костры - как микромятежи. Раньше в скит бежали от грехов, Нынче удаляются в любовь и т.д. [19. C. 184]. Путешествие на Север для героев Вознесенского приобретает черты романтического бегства, осуществляемого тем не менее в своем пространстве - «через всю Россию ночниками их костры». Север предоставляет возможность такой вненаходимости с элементами «внутренней эмиграции» в любовь, поэзию, историю, миф и пр. История места, культурная двойственность (если не многослойномъ) Карелии очевидно привлекательны для поколения авторов «оттепели» с ее гетерогенной культурой, подчас объединявшей противоположные тенденции: интерес к Западу и Востоку, к прошлому и будущему, физике и лирике, социализму и человеческому лицу и проч. Лирическая героиня цикла сортавальских стихов Белы Ахмадулиной, создававшихся уже в 1980-е гг., читает Ибсена и легко проживает этот скандинавский сюжет в некогда финском, но в момент написания стихов совсем советском Сортавала: Я - лишь горы моей подножье, и бытия величина в жемчужной раковине ночи на весь июнь заточена. Внутри немеркнущего нимба души прижился завиток. Иль Ибсена закрыта книга, а я - засохший в ней цветок. Всё кличет кто-то: Сольвейг! Сольвейг! - в чащобах шхер и словарей. 359 Шилова Н.Л. Север как Запад: литературный образ Карелии И, как на исповеди совесть, блаженно страждет соловей. [20. С. 430] Белая ночь Ахмадулиной объединяет пространство Севера - своего и чужого, советского и норвежского. Чтение Ибсена только подчеркивает эту неоднозначность локации лирической героини - физически присутствуя в своем месте и времени, она в то же время и внеположна ему, вненаходима. Или в другом стихотворении того же цикла, стартующем с финноугорского топонима и фиксирующего финские реалии прошлого на пограничной российской территории: Где Питкяранта? Житель питкярантский собрался в путь. Автобус дребезжит. Мой тайный глаз, живущий под корягой, автобуса оглядывает жизнь. Пока стоим. Не поспешает к цели сквозной приют скитальцев и сирот. И силуэт старинной финской церкви в проёме арки скорбно предстает [19. С. 440]. В цикле Ахмадулиной в итоге Карелия приобретает черты локуса, как мы бы сейчас выразились, интенсивной межкультурной коммуникации, а точнее - растворения границ. Существенно при этом, что ни в одном из приведенных примеров за исключением, пожалуй, поздней мемуарной цитаты из Виктора Ерофеева, нет противовопо-ставления своего - советскому. Скорее тут можно говорить о трансформации географического пространства, где граница имеет значение, в пространство поэтическое, в котором подчеркнута условность границы между своим и чужим и формируется образ своего чужого. Таким образом, оттепельные и позднесоветские художественные тексты о Карелии регулярно обыгрывают специфику места, его реалии и культурные традиции, мифологизируя Карелию как пограничное пространство и локус вненаходимости. Поэтика путешествий с их естественной детерриториализацией субъекта позволяла это сделать широкому кругу авторов от стадионных поэтов до гораздо ме-360 Имагология / Imagology нее эксцентричного Льва Озерова. Некоторые детали литературного образа Карелии, сложившегося в этот период, в том числе мотив путешествия, финно-угорские и скандинавские реалии и топонимы, позволяют видеть в нем помимо развития более ранней постромантической топики отражение позднесоветских практик вненаходимо-сти (термин А. Юрчака). В прозе и лирике Л. Озерова, А. Вознесенского, В. Старкова репрезентация путешествия в Карелию обретает черты путешествия во времени, соприкосновения героя со стариной / вечностью. Такая позиция героя по отношению к его времени коррелирует с развивавшимися в тот период механизмами ухода советского человека от «злобы дня» без прямого противодействия или противопоставления себя идеологической системе. В карельских сюжетах Ю. Казакова и Б. Ахмадулиной образ места за счет введения финноугорских топонимов, мотивов, лексики порой приобретает черты «нашей заграницы», «воображаемого Запада», раньше по времени -у Казакова, позже - у Ахмадулиной. В отличие от собственно Запада Карелия не была исключительно воображаемой: ее как раз можно было посетить и увидеть воочию. И на северо-западных территориях СССР путешественники оказывались в пространстве такого наслоения культур, которое существенно усиливало то ощущение вненахо-димости, которое в той или иной степени свойственно всякому путешествию. Концентрируется эта образность вокруг финно-угорских и скандинавских реалий и деталей, появляющихся в поэзии и прозе, художественной и очерковой. Они, как мы показали, при изображении Карелии не обязательны: есть тексты, в которых ситуация вненаходимости получает иные способы выражения (обращение к древнерусской культуре, мотив путешествия во времени). Но заметны и встречаются неоднократно. И могут достигать значительной интенсивности, как в очерке Ю. Казакова «Калевала». Эти черты «воображаемого Запада» органично входили в общую тенденцию романтизации и мифологизации Карелии в ее литературной репрезентации позднесоветского периода. И создавали образ Карелии как «нашей заграницы», родственной Прибалтике. Литературные тексты популярных авторов этот образ транслировали, широко распространяя это представление в среде читателей.
Скачать электронную версию публикации
Загружен, раз: 38
Ключевые слова
вненаходимость, «оттепель», Карелия, имагология, «воображаемый Запад»Авторы
| ФИО | Организация | Дополнительно | |
| Шилова Наталья Леонидовна | Петрозаводский государственный университет | канд. филол. наук, доцент кафедры классической филологии, русской литературы и журналистики | natalia.l.shilova@gmail.com |
Ссылки
Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. М. : Новое литературное обозрение, 2016. 664 с.
Галимова Е.Ш. Художественный мир Юрия Казакова. Архангельск : Изд-во Поморского гос. пед. университета, 1992. 172 с.
Азере Д.А. Пространственные модели путевого очерка В. Некрасова // Вестник Санкт-Петербургского государственного. университета. Сер. 9. 2014. Вып. 4. С. 74-80.
Вайль П. 60-е. Мир советского человека. М. : Новое литературное обозрение, 1998. 359 с. URL: https://document.wikireading.ru/10373
Патроева Н.В. Карельские мотивы и фольклорные элементы в лирике Р. Рождественского // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Сер.: Общественные и гуманитарные науки. 2015. № 5 (150). С. 87-91.
Алешка Т. Творчество Б. Ахмадулиной в контексте традиций русской поэзии. Минск : РИВШ БГУ, 2001. 124 с.
Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М. : Искусство, 1970. 384 с.
Разумова И. «Под вечным шумом Кивача..» (Образ Карелии в литературных и устных текстах // Геопанорама русской культуры: Провинция и ее локальные тексты. М. : Языки славянской культуры, 2004. C. 101-122.
Шилова Н.Л. Юрий Казаков и Карелия (по материалам писем к Ортьё Степанову 1961-68 гг.) // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2017. № 3. С. 115-120.
Казаков Ю. Северный дневник // Казаков Ю. Собр. соч. : в 3 т. Т. 2: Соловецкие скитания. М. : Русскій міръ, 2008. С. 134-144.
Golubev А. “A Wonderful Song of Wood”: Heritage Architecture and the Search for Historical Authenticity in North Russia // Rethinking Marxism. A Journal of Economics, Culture & Society. 2017. Vol. 29. Issue 1. P. 142-172. URL: https://www.academia.edu/34967046/_A_Wonderful_Song_of_Wood_Heritage_Architecture_of_North_Russia_and_the_Soviet_Quest_for_Historical_Authenticity
Озеров Л. Онежская быль: рассказ // Юность. 1972. № 7. С. 63-68.
Сказ о Кижах : сборник / сост. Е.И. Такала, М.В. Тарасов. Петрозаводск : Карелия, 1988. 142 с.
Скобелев О.А. Традиционное земледелие в музее-заповеднике «Кижи». Петрозаводск : Издательский центр музея-заповедника «Кижи», 2010. 15 с.
Казаков Ю. Адам и Ева // Казаков Ю. Собр. соч. : в 3 т. Т. 1: Странник. М.: Русскій міръ, 2008. С. 255-280.
Кузьмичев И. Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование. СПб. : Союз писателей Санкт-Петербурга; ООО «Журнал “Звезда”», 2012. 536 с.
Ерофеев В. Избранные. М. : Зебра Е, 2006. 735 с.
Вознесенский А. Ахиллесово сердце: Стихи. М. : Художественная литература, 1966. 285 с.
Ахмадулина Б. Избранное. М. : Советский писатель, 1988. 480 с.
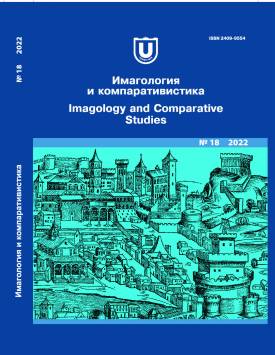
Север как Запад: литературный образ Карелии и практики позднесоветской вненаходимости | Имагология и компаративистика. 2022. № 18. DOI: 10.17223/24099554/18/17
Скачать полнотекстовую версию
Загружен, раз: 735

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью