В статье прослеживается развитие концепта «понимание» в философско-психологическом срезе - от теоретических положений, касающихся понимания у русского философа В.В. Розанова и немецкого психиатра, психолога, философа К. Ясперса, до современных феноменологических психологов и экзистенциальных психотерапевтов. Далее выявляются специфика и функции понимания в процессе психологической помощи человеку.
Psychological care as understanding.pdf Введение Человек обращается за психологической помощью в сложной жизненной ситуации, ожидая от психолога понимания, которое может стать средой поиска возможностей наиболее благополучного разрешения ситуации. Однако с пониманием не все очевидно. Понимать можно по-разному: сказанное или говорящего, рационально или эмоционально, что-то как статический факт или как включенное в динамику развития какой-либо ситуации и т.д. Именно по причинам того, что понимание оказывается для психологии концептом важным, но не до конца проясненным по содержанию, мы и обратились к этому вопросу. Второй причиной обращения к заявленной проблематике является специфичность понимания человека в сложной жизненной ситуации, когда он и обращается за психологической помощью. Специфичность эта обусловлена следующим противоречием: с одной стороны, в сложной ситуации потребность в понимании возрастает, так как именно в коммуникационном поле могут быть достигнуты цели человека, находящегося в сложной жизненной ситуации, - поиск нового языка для открытия смысла случившегося, выбор действий по преодолению сложной ситуации, реставрация идентичности, а с другой стороны, человек в сложных ситуациях часто совершает поступки, оцениваемые со стороны как импульсивные, иногда даже как неадекватные, восприятие человека сужается. Для наблюдателя все это становится признаком нецелостности личности, хотя этому есть некоторые оправдания - в синергетике проводится аналогия между дескриптивными процессами рефлексии и процедурами возмущений, особенно с такой, как асимптотический ряд теории возмущений. Эта процедура в рамках рефлексии выражается в том, что «наша психика, видимо, защищает себя от излишней стабильности мнения, устает от монотонности бесконечных подтверждений, оставляя за собой право на хаос сомнений, который врывается в сознание...» [1. C. 102]. Таким образом, внешний наблюдатель видит нецелостность, которая в свою очередь и является основным признаком «ненормального личностного мира» [2. C. 345]. На полях заметим, что человек в сложной ситуации может быть целостным с одним, и «суженным» с другим. Причина такого положения двоякая - с одной стороны, человек целостен с теми людьми, общаясь с которыми, он исходит из представления о себе для них как целостного, с другой - и воспринимающий человек должен исходить из подобной же установки выражать глубинное уважение к личности человека, кем бы тот ни был - ребенком, безработным, разводящимся и пр. Итак, отсутствие единственного направления мысли и действий человека в сложной ситуации является причиной того, что другие люди могут игнорировать, опасаться человека в сложной жизненной ситуации; причиной и/или следствием этого может быть непонимание [Там же. C. 93]. С этой точки зрения профессиональная позиция психолога, имеющего целью своей деятельности понимание, становится более чем актуальной. Третья причина обращения внимания на концепт понимания обусловлена тем, что современное психологическое образование практически не нацелено на близкое знакомство будущих профессионалов ни с русской философской и теологической мыслью, ни с современными европейскими концепциями, где изложены методологические основания процесса понимания. В данной работе мы попытаемся восполнить этот пробел, прослеживая развитие взглядов на понимание в философско-психологическом ракурсе, а затем намечая возможности применения его в русле психологической помощи человеку в сложных ситуациях. Относительно места концепта понимания в психологической науке вопрос, который проясняет его положение и задает схему анализа, может быть поставлен следующим образом: является понимание целью психолога или его методом? Материалы и методики исследования В настоящее время в рамках дискуссии о методологических приоритетах в психологии («описание» или «объяснение») термин «понимание» употребляется как синоним описания; разработка метода понимания приписывается В. Дильтею [3]. Хотя В. Дильтей писал о понимании и переживании, от которого зависит понимание, он назвал свой труд «Описательная и аналитическая психология». При этом В. Дильтей выстраивает свою логику познания человека с помощью такой цепочки рассуждений: для достижения наиболее адекватного описания человеческого внутреннего мира нужно понимание и объяснение, т.е. цель (науки) - описание, методы - понимание и объяснение, инструментальными частями которых являются анализ, типологизация, истолкование. В свою очередь другой ученый, К. Ясперс, назвал свою методологию познания человека именно понимающей психологией, признавая влияние на свои взгляды не только и не столько В. Дильтея, сколько Э. Гуссерля [4]. Э. Гуссерль, создавая теорию познания (а создавая феноменологию, он создавал именно ее), делает вывод о наличии в правильно осуществляемом, продуктивном процессе познания двух последовательных этапов: 1) феноменологической редукции, которая заключается в таком взгляде на познаваемый предмет, который бы исключал любые априорные предположения, теории, концепции и пр.; 2) эйдетической редукции, заключающейся в поиске того общего, идеального (от слова «идея» - «эйдос»), что существует в предметах, уже познанных на первом этапе с помощью непредвзятой, феноменологической редукции. Известна иллюстрация этого двухшагового процесса познания у самого Э. Гуссерля - познать сущность красного можно, если сначала непредвзято смотреть на красное в разных формах (красный портфель, красная штора, красное кольцо и т.д.), а затем «высмотреть» сущность красного без формы, самого по себе [5]. В трудах Э. Гуссерля мы сталкиваемся со словом «психология» часто (кстати, по свидетельству К. Ясперса, Э. Гуссерль изначально называл свою феноменологию дескриптивной психологией), однако не психологи, а психиатры заметили труды Э. Гуссерля [4]. Особенно приветствовали они принцип именно феноменологической редукции, так как он позволял найти твердую почву при диагностике и описании разноликой симптоматики психических расстройств. Действительно, познать жизненный мир другого, а тем более такого другого, который потерял разум, можно лишь без предвзятости, без желания поместить пациента в изначально заданную категорию. С помощью принципа феноменологической редукции психиатры «разрешили» себе быть во многом философами и психологами. Результатом этого процесса стал тот факт, что директора Бургхольцкой психиатрической клиники Л. Бинсвангер и М. Босс, а также психиатр этой же клиники К.Г. Юнг признаны мэтрами именно в психологии и в философии, а К. Ясперс, который является основателем понимающей психологии, считается философом, хотя по образованию является психиатром. Второй принцип феноменологии (эйдетической редукции) в ее изначальном варианте Э. Гуссерля психиатрами был проигнорирован. Причем, согласно мнению методологов науки, такое случается в науке нередко - то, что непонятно или неудобно, можно опустить [4]. Психиатры попросту не могли применить принцип эйдетической редукции, так как признать наличие идеи, идеала, сущностного в психической болезни означает во многом отрицать несоответствие социальным, идеальным, субъективным нормам самого психического расстройства. Например, Ясперс, познакомившись с методом эйдетической редукции, писал: «Феноменологию Гуссерля, которую он поначалу именовал дескриптивной психологией (курсив наш. -Е.Г., Ю.Г.) я воспринял и использовал в качестве метода, при этом, правда, не принимая ее последующего развития и превращения в созерцание сущностей» [4. C. 185]. Результаты исследования и обсуждение Таким образом, феноменология «стучалась в двери» психологии, но та переживала пик естественнонаучного этапа развития. Психологи не так восхищенно отнеслись к принципу феноменологической редукции еще и потому, что к тому времени не было у психологии так много, как у психиатрии, концепций, в прокрустово ложе которых можно было ввергнуть процесс познания человека. В настоящее же время исследования, ставящие во главу угла принцип феноменологии (феноменологической редукции), в психологии распространяются все шире. Так, например, в журнале по консультативной психологии и психотерапии существует специальный раздел, посвященный феноменологическим исследованиям. К. Ясперс стремится так же, как и В. Дильтей, предложить методологию познания человека, и опять здесь понимание декларируется четко в качестве метода. Однако внимательное прочтение «Общей психопатологии» (особенно ее части о человеке как целом, об интегрированности больной души в общество и историю) дает возможность увидеть, что понимание рассматривается им и как цель, которая, правда, по его мнению, принципиально недостижима, так как есть определенные границы, за которыми разум человека должен смириться с собственным бессилием. Способность увидеть мир человека его глазами К. Ясперс и обозначает как понимание. Причем К. Ясперс разделяет понимание сказанного, считая, что для этого основой является феноменология, и понимание говорящего, что является прерогативой понимающей психологии [2. C. 370]. К. Ясперс считает, что поскольку понять человека до конца невозможно, по-настоящему можно понять лишь знания о человеке. Он определяет метод понимания через описание следующих дихотомий. 1) Феноменологическое понимание и понимание экспрессивных проявлений. Первое - это представление о внутренних переживаниях человека, вырабатываемое на основе речи, сказанного. Второе - восприятие смысла физических проявлений человека (движения, мимика и т.д.). 2) Статическое и генетическое понимание. Первое предполагает восприятие отдельного факта вне контекста, второе - рассмотрение генезиса и динамики событий. 3) Генетическое понимание и объяснение. Первое - это понимание с точки зрения субъективно значимых взаимосвязей событий, второе - объективная демонстрация причинно-следственных связей. Понимание самоочевидно, интерпретативно и принципиально неполно, в то время как объяснение базируется на объективных фактах, не включает интерпретацию и в конечном итоге все-таки претендует на полноту освещения всех факторов, влияющих на какой-либо феномен. 4) Рациональное и эмпатическое понимание. Первое - это интеллектуальное понимание логической структуры ситуации, второе - вчувство-вание в человеческую ситуацию. 5) Понимание и истолкование. Последнее предполагает, в противовес пониманию, опору на «немногочисленные отправные точки, позволяющие с достаточно высокой долей вероятности экстраполировать на данный случай те или иные взаимосвязи, уже известные нам...» [Там же. C. 374]. 6) Духовное понимание предполагает выявление идеалов человека. 7) Экзистенциальное понимание (философское экзистенциальное озарение). Здесь необходимо понимать ситуацию как критическую точку, «в которой наше наличное бытие (Dasein) возвышается до «бытия самости» (возможности быть самим собой, Selbstsein)» [Там же. C. 375]. 8) Метафизическое понимание «направлено на смысл, выходящий за пределы переживаемого И факты и свобода истолковываются метафизическим пониманием как язык некоего абсолютного бытия» [Там же. C. 376]. Предметом понимания в человеке, согласно К. Ясперсу, служат следующие данности: 1 - свобода человека; 2 - наличие процесса саморазвития; 3 - существование границ Я;4 - факт различия между сомато-психологическим и социально-духовным в человеке; 5 - наличие значимых событий в биографии человека, которые определяют его жизненный путь; 6 - наличие в человеке «объемлющего» (недостижимого идеала) [Там же. C. 900-904, 907]. С этой точки зрения понимание - это выявление и признание различий между людьми в этих шести параметрах. Примерно в одну эпоху с К. Ясперсом творил и русский философ В.В. Розанов. И здесь заметен несколько другой подход: в своей книге «О понимании» он пишет, что понимание - это и метод, и цель познания. Причем это цель для философа. Для ученого же (В.В. Розанов разделял науку и философию) понимание - это метод. В этом русле важно определиться, является психолог «ученым» или «философом». Достигать цели понимания человека можно разными методами: и с помощью описания (с него начинается), и методом объяснения (поиска причинно-следственной связи), и собственно методом понимания, инструментами которого признаются интуиция, эмпатия, «схватывание», сходство опыта познающего и познаваемого и др. Главным свойством понимания В.В. Розанов считает его самоопределяемость, фактически - спонтанность и неотвратимость: «нельзя извне чьею-нибудь воле - того ли, кто понимает, или того, кто наблюдает понимающего, - определить заранее, как должно понимать (форму процесса), до какого предела (прервать процесс) и что, какие истины должны содержаться в понимании... понимает не человек, но в человеке совершается понимание... и остановить или направить это понимание так же невозможно, а всякая попытка сделать это так же мучительна, как невозможно и мучительно направить кровообращение или задержать дыхание. Раз открылось для разума существование объекта, он не может уничтожить в себе которую-либо из схем познания: а что найдет он в этих сторонах, этого он не знает....» [6. C. 412]. Цель понимания - «всеудовлетворенность разума» [Там же. C. 14], а также его утонченность (говоря современным языком, когнитивная сложность), что находит отражение и в тонкости чувств. В.В. Розанов противопоставляет знание и понимание. Понимание отличается от знания глубиной, неразрывностью, оно «заключает в себе сознание, то, что существует, и не может не существовать»; знания существуют благодаря органам чувств, понимание - благодаря разуму [Там же]. Фактически В.В. Розанов не признает эмпатического понимания на основе чувств, а лишь только рациональное понимание. Чувствам же В.В. Розанов отводит следующую роль в процессе понимания: «помимо сознательного участия своей воли, он (человек) как бы вовлекается, как бы втягивается в его объяснение и испытывает неприятное и тяжелое чувство от прикосновения всего, мешающего развитию начавшегося в нем процесса понимания. И когда, наконец, искомое объяснение найдено, он испытывает высокую и чистую радость...» [Там же. C. 56]. Розанов отмечает и особо выделяет необходимость для понимающего быть захваченным предметом своего понимания, испытывать эмоциональный подъем, влечение к нему. Основой понимания является «отвращение от ничего не объясняющих знаний, хотя бы и новых и интересных в самих себе» [Там же. C. 459]. Продолжая рассмотрение различий знаний и понимания, Розанов добавляет, что в знании истины ПРИсоединяются, зачастую не образуя целостности, а в понимании - СОединяются, приводя к видению целого. При определении предмета понимания В.В. Розанов сначала представляет общую схему понимания как процесса, переходя затем к конкретным предпосылкам понимания так называемого Мира человеческого. «Понимание же имеет следующие признаки: необходимость существования предмета его; содержание в себе ответа на совокупность вопросов, которые разум может предложить относительно этого предмета; раскрытие внутренней природы понимаемого предмета и скрытого процесса, происходящего в понимаемом явлении; цельность его (понимания); господствующее участие разума в произведении его; усовершаемость его; целесообразность в его образовании» [Там же. C. 24]. Процесс понимания проходит, согласно В. В. Розанову, по пяти ступеням осознания: 1) наличия предмета познания; 2) сущности его; 3) свойств понимаемого; 4) причины возникновения познаваемого; 5) цели предмета. Однако триумфом разума становятся шестая и седьмая ступени - 6) размышления над сходством / различием разных предметов, смежных и отдаленных с познаваемым (это и есть чистое творчество, по В. В. Розанову); 7) идея числа. Причем для последних ступеней нет внешней необходимости. Это и есть чистое понимание. Понимание направляется стремлением (что познать) и способностями (могу ли я это познать). В своей работе Розанов излагает предметные предпосылки понимания человека, и здесь понимание - это цель. Мир человеческий признается продолжением Космоса, однако основное, в чем познается Мир Человеческий, -это Дух [Там же. C. 374]. Дух - это творческий источник, производящий идеи (растение же лишь воспроизводит само себя). Творчество Духа может осуществляться в трех областях - в области разума, в области чувств (эстетическое творчество, нравственное, творчество в области чувства справедливости, религиозное творчество), в области воли (политика, экономика, язык). Самым же насущным вопросом понимания Мира человеческого Розанов В.В. считает понимание Добра и Зла, которые не производятся Миром человеческим, но вне этого мира ни добро, ни зло не проявляются. «Под злом мы будем разуметь все, что явно или скрыто заключает в себе страдание, а под добром - противоположное ему - что исключает собою страдание и как действительное, и как возможное» [Там же. C. 552]. Явления Добра и Зла не существуют в чистом виде, Зло само по себе не равно страданию, оно включает страдание (например, другого, обманываемого человека). В. В. Розанов разделяет Зло на физическое (слабость, болезнь, смерть) и духовное. Зло физическое может тем не менее привести к возрождению (добру) духовному. В этом аспекте В.В. Розанов приводит в своем тексте русскую поговорку: «Кто на море не бывал, тот Богу не маливался». Здесь по сути В. В. Розанов конституирует продуктивность сложных ситуаций в жизни человека, их необходимость для роста личности. Среди причин возникновения зла В. В. Розанов называет следующие: бедность и физический труд, которые приводят к недостатку досуга; воображение, которое «вмешивается» в жизнь тела, в результате чего человек теряет естественную здоровую спонтанность, вместо этого «придумывая» себе сложности; незнание; отсутствие произведений науки и искусства, которые существуют благодаря постоянному досугу целого класса людей; а также отсутствие толерантности к многообразию человеческих характеров. Отметим, что психологу приходится работать на всех этих полях: обучая эффективным социальным технологиям в целях достижения успеха, в том числе и материального, проводя просветительскую работу о психогигиене труда, перегрузках, монотонии и пр., пытаясь ввести воображение клиента в безопасные рамки, арт-терапия может исподволь способствовать актуализации целительной силы искусства, консультирование также продвигает личность на пути толерантного восприятия многообразия характеров. Основное различие в концепциях понимания у Ясперса и Розанова, на наш взгляд, заключается в том, что немецкий философ признает ограниченность понимания человека человеком. Для него понимание как метод опирается на объективный фактический материал (речь, действие, жестикуляция, мимика), но обязательно включает в себя истолкование, которое всегда неполно [2. C. 369]. Понимание как цель для К. Ясперса - это «идея в кантовском смысле», это направление размышления, это такая цель, «которая не может быть достигнута, поскольку пребывает в бесконечности» [Там же. C. 688-689]. В.В. Розанов же постулирует возможность познания идеала, предполагая, что «. истинное знание может быть образовано не только о том, что существует... но и о том также, что должно существовать...» [6. C. 13]. Важно, что В.В. Розанов привносит в концепцию понимания то, что является конституирущим для русского менталитета - проблемы Добра и Зла, нравственности, справедливости являются для русского человека специфически интересными. Например, исследования в области восприятия политических лидеров, руководителей в организации показывают, что главным в их восприятии последователями является отражение именно духовных, нравственных взглядов лидера [7, 8]. К. Ясперс тоже выделяет в особую статью духовное понимание, однако само описание духовной жизни человека у него больше основано на понятиях идеала, чем на понятиях Добра (как отсутствие страдания) и Зла (как страдания). Итак, первая половина ХХ в. ознаменовалась трудами В. Дильтея, Э. Гуссерля, К. Ясперса, В.В. Розанова, которые по праву можно считать концептуальными в плане разработки оснований понимания человека. Что же происходит с концептом понимания на современном этапе? Здесь мы отметили бы четыре основных направления - психолингвистическое, феноменологическое, психотехническое и экзистенциальное. Во всех выделенных направлениях анализируются понятия смысла, интенции, нарративное, переживание, однако ракурсы и акценты исследований различаются. Три первых направления, несомненно, испытали на себе влияние трудов Э. Гуссерля, они и указываются в качестве источников разрабатываемых идей. Так, согласно Э. Гуссерлю, основным дескриптивным способом психического является интенциональность, понимаемая как способность какого-либо содержания быть идентифицированным, опознанным как идентичное самому себе. На этом постулате и основывается теория понимания значений [9]. Значения проявляются в речеязыковой активности. Отметим, что М. Хайдеггер понимает человека как человека говорящего: «Человек кажет себя как сущее, которое говорит» [10. C. 165]. К. Ясперс также подчеркивал важность коммуникаций для процессов понимания: «Объективация духа происходит при посредстве структур, речевых форм, разнообразных форм деятельности и поведения; Речь - это самая универсальная форма человеческого творчества» [2. C. 353-354]. Явления языка и речи рассматриваются в психологии в контексте природных и социальных закономерностей жизни человека. Так, в предложенной Т.Н. Ушаковой обобщающей модели-схеме речеязыкового механизма взрослого человека выделяется несколько звеньев, каждое из которых включает в себя несколько функциональных блоков. Звено, отвечающее за взаимодействие человека с внешним миром с помощью речи, распадается на два блока - произнесение и восприятие речи. В центральной части модели представлены функции, отвечающие за хранение языкового опыта, формирование словесных элементов («морфем»), запечатлением, различных характеристик слова (акустических, семантических). Отмечается, что на формирование данной структуры оказывает влияние множество различных по своему характеру факторов - генетические, социальные, нейрофизиологические, мотивационные и т.д. Следующее звено определяется как важнейшее «.. .в плане инициации и побуждения человека к говорению. Его функция состоит в том, чтобы накапливать активность, возникающую под влиянием внешних воздействий, личностных направленностей, интеллектуально-когнитивных операций. В психологическом плане он реализует интенции субъекта к высказыванию...» [11. C. 23]. Указывается, что этот кумулятивно-побудительный блок, реализующий интенции, непосредственно связан с психологическими состояниями, личностными образованиями. Речь - важный и доступный для объективных методов канал получения информации о внутреннем мире человека [9, 12, 13]. Речь является одной из форм активности в рамках конкретных ситуаций, она связана со смысловыми, когнитивными, мотивационными, индивидными характеристиками человека [14], с помощью анализа устной и письменной речи человека изучается субъективная интерпретация ситуации [15]. Именно поэтому психолингвистика разрабатывает инструменты изучения процесса понимания сказанного. В русле современных исследований известно несколько методических подходов к анализу речевого материала: а) анализ формальных характеристик речи (например, частота и длительность пауз, частота слов-запинок, нелексические вокализации (смех, кашель); б) анализ грамматических характеристик текста; в) содержательный анализ речи (контент- и интент-анализы). Сущность метода контент-анализа состоит в фиксации определенных единиц содержания, которое изучается, а также в квантификации полученных данных. Единицы контент-анализа выделяются в зависимости от содержания, целей и задач исследования. Например, методика Готтшалк-Глейзер благодаря определению частоты появления определенных категорий в речевых высказываниях и вычислению факторного веса каждой категории позволяет измерять величину аффекта: чем сильнее аффект, тем чаще в речи будут использоваться соответствующие ему высказывания по сравнению с другими [16]. Термином «интенция» в психологии обозначается субъективная направленность на некий объект, активность сознания субъекта [17]. В речевом механизме функционируют два типа интенциональных процессов. Интенции первого уровня непосредственно связаны с функционированием нервной системы человека: наличием потребности в экстериориза-ции внутренних состояний. Артикуляционный аппарат является лишь одним из возможных каналов реагирования. Человек может показывать состояния своими движениями, мимикой, взглядом и пр. Интенции второго уровня социальны по происхождению, их можно обозначить как коммуникативные интенции. Выражение этого типа интенций предполагает обозначение ее объекта и отношения к нему говорящего субъекта. Метод интент-анализа состоит в последовательном, шаг за шагом, оценивании экспертами высказываний выбранного текста. Оценивание производится с целью определить, чем вызвано данное высказывание, зачем оно нужно говорящему. Реконструировать подтекст, выявив не только то, что человек формально сказал, но и то, что он хотел сказать или имел в виду, т. е. мотив и цель его речи, определяющие ее внутренний смысл, -такую задачу ставит перед собой метод интент-анализа. Интенциональное содержание непосредственно связано с личностью говорящего, его предпочтениями, деятельностью. При этом интенциональ-ный аспект взаимосвязан и с ситуативным контекстом: что именно и каким образом человек говорит, зависит от того, как ситуация отражается в индивидуальном сознании и бессознательном. Исследования в русле психологии семантики, проведенные Н.А. Алмаевым и базирующиеся на модели речеязыковой деятельности Т.Н. Ушаковой, показали, как именно происходит сопоставление мысли и слова на основе общности их интенциональных структур, а именно таким образом, что человек ищет соответствие между тем, как он осознает ситуацию, и возможностями выразительных средств (слов, звуков) описать, показать этот образ-осознание [9]. В наших исследованиях было показано, что с помощью анализа речи можно исследовать особенности межличностных отношений человека, субъективную интерпретацию различных жизненных ситуаций, например миграции, развода [18, 19]. Вторым современным направлением, разрабатывающим концепт понимания и тоже уделяющим особое внимание анализу сказанного и интенциям, является феноменологическая психология. Здесь понимание - это цель психолога, которому необходимо понять переживание, а собственно переживание в основном проявляется в речи. Основными методологическими основаниями феноменологического подхода (понимания сказанного) являются следующие постулаты: 1. «Феномены есть то опосредующее звено, которое объединяет в себе - нерасчлененно - с одной стороны, представление объективных отношений, а с другой - субъективную очевидность, не предполагающую абсолютного знания и действия, на нем основанного» [20. C. 22]. 2. Единица описания для современной феноменологической психологии - это переживание, которое представляет собой целостную единицу сознания, это «поток сознания». Надо признать, что переживание и «поток сознания» - это достаточно размытые понятия. Сюда включено психологами слишком многое - и поведение, и вербальные параметры, и невербальные проявления, и эмоции, и отношение, а в понимающей психотерапии переживание понимается «...как внутренняя деятельность, направленная на преодоление критических жизненных ситуаций» [21. С. 8], причем подчеркивается волевой характер этой работы. Для любого, кто знаком, например, с понятиями манипуляции, психологической защиты, социально желательных ответов, эмоционального контакта и др., «поток сознания» представляется понятием, подлежащим серьезным дополнениям, - выяснению хотя бы собственно ситуации получения информации об этом потоке сознания. Есть большая разница в подходе к анализу сказанного о «потоке сознания» в ситуациях первого сеанса у психолога до установления контрпереносных отношений или же в середине цикла психологической коррекции, когда установились особые отношения, или в ситуации, когда «поток сознания» был озвучен студентом профессору на экзамене, преследуя какие-то свои ситуативные цели, и т.п. Затем необходима информация, о какого рода ситуации дан этот поток. Если это значимая и сложная ситуация, то искажения могут быть достаточно большие - субъективная интерпретация зависит от ситуации значительно, что и показывают наши исследования [19]. В этом же ключе выполнены и другие работы, показывающие изменчивость и многофакторность представлений о ситуации [15, 22, 23]. Примечательно, что К. Ясперс пишет относительно правил процесса вычленения феноменов: «... важно, чтобы мышление и воля находились вне сферы этого прямого переживания» [2. C. 91], иначе вычленение феноменов, осуществляемое с помощью рефлексии, будет неточным в большой степени. Если мышление и воля выключены, то можно предположить, что из здоровых социально приемлемых состояний - это медитация или сон. Если для получения содержания переживания нужно погрузить человека в сон или медитацию, это значительно ограничивает круг возможностей психолога в плане получения переживаний. К тому же исследования в области гипноза показывают, что воля все равно до конца не выключается даже в этом состоянии, оставляя под контролем базовые ценности человека, мышление тоже до конца не выключено и во сне. К этим рассуждениям примыкают и слова Ницше о том, что человек должен быть ответственным даже за свои сны [24]. К. Ясперс предлагает следующий интересный выход из сложной ситуации вычленения феноменов, которые должны быть очищены от произвольности разума и воли: для получения «чистого переживания» без участия воли и мышления в качестве предмета для познания брать переживания философов, которые умеют отделять переживания с участием произвольности и без участия произвольности [2. C. 29-86]. Степень достигаемой точности интерпретации потока сознания также может быть достаточно сложно определяемой. Спорным, на наш взгляд, является утверждение теории переживаний Ю. Джендлина о том, что при обращении сознательного фокуса к всегда существующему потоку переживаний смысл этих переживаний угадывается безошибочно [25]. В психотерапии широко известен феномен рационализации собственных переживаний, когда чувственному переживанию приписывается произвольный, иногда рассчитанный на наблюдателя, социально приемлемый смысл этого переживания. В психотерапии критерием истинности и аутентичности обозначенного смысла переживания является согласованность вербального и невербального. Легкая брезгливость на лице в сочетании со словами «Да, я люблю N...» насторожит практикующего психотерапевта и заставит его задуматься над тем, каков же истинный смысл произнесенных звуков. А. Лэнгле пишет в этом аспекте: «Необходимо отделять переживания, основанные на соотнесении с реальностью, от проецируемых чувств» [26. C. 119]. Получается, что при феноменологическом подходе мы должны доверять психологической компетентности либо самого автора нарра-тива, либо компетентности экспертов-«переводчиков». Насчет последнего параметра в литературе описывается исследование, проведенное в среде студентов, когда им было необходимо описать свои «феноменологические впечатления», которые по своей силе и направленности приближали бы их к своей собственной сущности, способствовали переживанию Встречи с истинной действительностью, Бытием. Исследователь отмечает, что только около 60% участников смогли справиться с задачей репрезентации этого опыта [27]. Основными качествами, позволившими респондентам выполнить задание, были умение подхватывать и усиливать впечатление, «выслушивать» его. Следовательно, наличие этих способностей является водоразделом для определения возможности доверия «эксперту-перевеодчику» при проведении феноменологического анализа (переживания). Одним словом, в феноменологической психологии не решен один из основных вопросов: каким образом переживания и их релевантность для исследования связаны с волей и произвольностью [28]. 3. Третьим постулатом феноменологической психологии является положение о том, что конкретная ситуация со своими объективными параметрами (физическими, химическими, пространственными и др.) и слова, ее описывающие, имеют для феноменологической психологии особое значение. «Конкретное является для феноменологии основополагающим. конкретное часто называют нарративным» [26. C. 119]. То есть рассказ о ситуации есть отражение переживания и, следовательно, нарратив - это тоже единица феноменологического анализа. Человек использует конкретное слово, не только зная и называя заложенную в нем предметность значения, но и чувствуя его смысл [25]. Феноменологической анализ сказанного должен осуществляться только в тех рамках, в которых оно само и проявляется, необходимо решить задачу «позволить заговорить самому тексту, выявить конденсированный смысл» [Там же. C. 140]. При этом цель этого феноменологического анализа сказанного - поиск неисследованного аспекта опыта или непрожитой возможности. Критерии эффективности этого поиска следующие: 1. «...новый опыт, высвеченный благодаря интерпретационному утверждению, оказывается способным продвинуться дальше, к новым аспектам, которые не могли быть выведены из исходного утверждения». 2. Этот опыт «часто оказывается способным привести нас к изменению первоначального утверждения». 3. «. продолжающееся раскрытие новых и новых аспектов оставляет первоначальное утверждение далеко в стороне». 4. «.последовательность продвижения алогична», т.е. подчинена внутренней логике человека. Он судит на каждом следующем шаге - стоит ли отвергнуть предыдущую посылку в силу логики своей жизни, в силу того, что именно сам человек - субъект своего жизненного пути [Там же. C. 140-141]. В этом смысле необходимо очень аккуратно определять единицы поведения и лингвистические единицы, подходящие и не подходящие для феноменологического анализа. Так, слова «Я испытывал тревогу» могут ничего не означать в плане анализа переживаний в устах человека, плохо понимающего термин «тревога» (например, иностранца, ребенка и т.д.), либо, наоборот, употребляющего этот термин в каком-то собственном, иногда ограниченном, смысле (психоаналитика, например). При этом фраза «Мой страх был такой сильный, что я бежал как сумасшедший, не разбирая дороги, натыкаясь на что-то, падая, набивая шишки.» гораздо ценнее для феноменологического психологического анализа. Вторая проблема, которая связана с феноменологическими исследованиями сказанного, - определение цели и «заказчика» исследования. Для кого нужно выявить неисследованный аспект опыта - для ученого-психолога, для самого человека (клиента), для психотерапевта, для родителя этого человека? Неисследованных аспектов опыта может быть практически неограниченное количество, и что с ними потом делать? Чтобы предсказать? А что именно предсказать - можно ли с этим человеком пойти в разведку? Или, может, данные о неисследованном аспекте опыта нужны, чтобы управлять этим человеком? Или чтобы он перестал страдать? Или чтобы вырос как личность? Цель будет задавать ракурс ответа, и проблема, как видим, здесь существует. Таким образом, феноменология без второго принципа - эйдетической редукции - оказывается неполноценной, так как теряет цель и целостность, не понимает, зачем исследовать феноменологические структуры, в чем суть анализа потока переживаний. В рамках психотехнической парадигмы происходит отшлифовка, уточнение концепта «переживание», исследование его взаимосвязи с пониманием. Изначально в психологии понятие переживания связывалось по большей части с эмоциональным отражением того или иного явления, объекта. В настоящее время ряд исследователей определяют его как внутреннюю волевую работу по восстановлению душевного равновесия и поиска смысла существования [21]. Исходя из этих положений, переживание становится ступенью к определению стратегии поведения. От эмоций - к целостному переживанию и затем к стратегии поведения - такова логика функционирования переживания как особой деятельности. Таким образом, разработка психотехнической парадигмы привела к разработке третьего направления исследования процесса понимания - «понимающей психотерапии», и здесь понимание четко по
Розин В.М. Психология: наука и практика : учеб. пособие. М. : РГГУ: Омега-Л, 2005.
Ялом И. Экзистенциальная психотерапия / пер. с англ. Т.С. Драбкиной. М. : Класс, 2004.
Деркач А.А. Акмеология в системе наук о человеке // Теория и методология психологии: Постнеклассическая перспектива / отв. ред. А.Л. Журавлев, А.В. Юревич. М. : Институт психологии РАН, 2007.
Старовойтенко Е.Б. Отношение к себе: от культурогенеза к индивидуальному развитию // Психология. 2011. Т. 8, № 4. С. 3-28.
Petzold H.G., Wolf U., Landgrebe B., Josic Z., Stefan A. Integrative Traumatherapie -Modelle und Konzepte fur die Behandlung von Patienten mit «posttraumaitischer Belastungsstorung» / van der Kolk B., McFarlane A., Weisaeth L. Traumatic Stress. Paderborn : Junfermann, 2000. Р. 445-579.
Гришунина Е.В.Ь Сложные личные и профессиональные ситуации как активизирующие акмеологический потенциал личности // Мир психологии. 2011. № 3. С. 247-258.
Гурко Е. Деконструкция: тексты и интерпретация. Деррида Ж. Оставь это имя (Постскриптум). Как избежать разговора: денегации. Минск : Экономпресс, 2001.
Комбс А. Сознание; хаотическое и странно-аттракторное // Синергетика и психология: Тексты. Вып. 3 : Когнитивные процессы / под ред. В.И. Аршинова, И.Н. Трофимовой, В.М., Шендяпина. М. : Когито-Центр, 2004. С. 51-60.
Petzold H. Integrative Therapie. Bd. I : Klinische Philosphie. Paderborn : Junfermann, 1991.
Petzold H. Integrative Therapie. Bd. II : Klinische Theorie. Paderborn : Junfermann, 1992.
Petzold H. Integrative Therapie. Bd. III : Klinische Praxeologie. Paderborn : Junfermann, 1993.
Кохут Х. Восстановление самости / пер. с англ. М. : Когито-Центр, 2002.
Лакан Ж. Имена-отца / пер. с фр. А. Черноглазова. М. : Гнозис, Логос, 2006.
Василюк Ф.Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций). М. : Изд-во Моск. ун-та, 1984. С. 11.
Bohme G. Anthropologic in pragmatischer Hinsicht. Darmstadter Vorlesungen. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1985.
Petzold H. Integrative Therapie Modelle, Theorien & Methoden schulenubergreifender Psychotherapie. Uberarb. Neuauflage 2. Auflage, Paderborn : Junfermann, 2004.
Буякас Т.М. Феноменология смысла: смысл как зов души // Московский психотерапевтический журнал. 2009. № 2. С. 94-109.
Улановский А.М. Феноменология в психологии и психотерапии: прояснение неотчетливых переживаний // Московский психотерапевтический журнал. 2009. № 2. С. 52-76.
Джендлин Ю. Феноменологическая концепция и феноменологический метод: критический анализ работы Медарда Босса со сновидениями // Московский психотерапевтический журнал. 2009. № 2. С. 130-146.
Джендлин Ю. Фокусирование. Новый психотерапевтический метод работы с переживаниями. М. : Класс, 2000.
Лэнгле А. Феноменологический подход в экзистенциально-аналитической психотерапии // Московский психотерапевтический журнал. 2009. № 2. С. 110-129.
Ницше Ф. Утренняя заря. Мысли о моральных предрассудках. Свердловск : Воля, 1991.
Бурлачук Л.Ф., Михайлова Н.Б. К психологической теории ситуаций // Психологический журнал. 2002. Т. 23, № 1.
Мамардашвили М.К. Классический и неклассический подходы к анализу сознания // Московский психотерапевтический журнал. 2009. № 2. С. 8-26.
Василюк Ф.Е. Понимающая психотерапия как психотехническая система : автореф. дис.. д-ра психол. наук. М. : Психологический институт РАО, 2007.
Анциферова Л.И. Личность в трудных жизненных условиях: переосмысливание, преобразование ситуаций и психологическая защита // Психологический журнал. 1994. Т. 15, № 1. С. 3-16.
Гришунина Е.В.а Когнитивно-эмоциональная структура переживаний сложных жизненных ситуаций (на примере миграции и развода) // Консультативная психология и психотерапия. 2011. № 4. С. 130-152.
Психолингвистика: учебник для вузов / под ред. Т.Н. Ушаковой. М. : ПЕРСЭ, 2006.
Гришунина Е.В. Тематические центрации в высказываниях о ситуации развода // Язык. Сознание. Культура. Москва ; Калуга : Институт языкознания РАН, Институт психологии РАН, 2005.
Thomae H. Das Individuum und seine Welt. Gottingen, 1996.
Малкова Г.Ю. Контент-анализ автобиографических рассказов в изучении личностных свойств : дис.канд. психол. наук. М., 2005.
Ушакова Т.Н. Рождение слова: Проблемы психологии речи психолингвистики. М. : Институт психологии РАН, 2011.
Леонтьев Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности. Иркутск : Смысл, 2007.
Ушакова Т.Н. Речь: истоки и принципы развития. М. : ПЭР СЭ, 2004.
Остин Дж.Л. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1986. Вып. ХУЛ. С. 22-130.
Тупикина О.Г. Образ политического лидера в сознании масс : автореф. дис.. канд. психол. наук. М., 2003.
Хайдеггер М. Бытие и время / пер. с нем. В. Бибихина. М. : Академический проект, 2011.
Алмаев Н.А. Элементы психологической теории значения. М. : Институт психологии РАН, 2006.
Гуссерль Э. Идея феноменологии. М. : Гуманитарная академия, 2008.
Розанов В.В. О понимании. М. : Танаис, 1996.
Игельник М.С. Психологическая компетентность руководителя в условиях антикризисного управления : автореф. дис.. канд. психол. наук. М., 2002.
Власова О. Феноменологическая психиатрия и экзистенциальный анализ: История, мыслители, проблемы. М. : Издательский дом «Территория будущего», 2010.
Ясперс К. Общая психопатология : пер. с нем. М.: Практика, 1997.
Залевский Г.В. Объяснение и понимание в психологии // Теория и методология психологии: Постнеклассическая перспектива / отв. ред. А.Л. Журавлев, А.В. Юревич. М. : Институт психологии РАН, 2007. С. 195-223.
Аршинов В.И., Буданов В.Г. Синергетика постижения сложного // Синергетика и психология: Тексты. Вып. 3 : Когнитивные процессы / под ред. В.И. Аршинова, И.Н. Трофимовой, В.М. Шендяпина. М. : Когито-Центр, 2004.
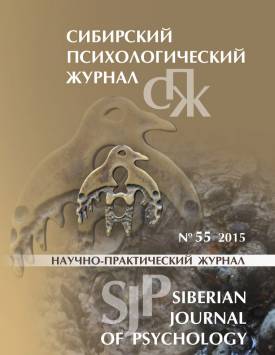

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью