Рассматривается традиционно психоаналитическое явление осознания сквозь призму культурно-деятельностного подхода, на основе постнеклассической методологии. Проводятся параллели между развитием ребенка в игре и личностным развитием взрослого при анализе сновидений. В этом контексте осознание рассматривается как разворачивающаяся в диалоге рефлексивная «самодеятельность» по конструированию жизненных смыслов опосредованно знаково-символическими образованиями. Эксплицируется механизм деятельности осознания.
The Mechanism of Awareness of Life Meanings in Light of the Cultural-Activity Approach.pdf Введение и постановка проблемы В современной психологии все более отчетливо понимается необходимость налаживания диалога между различными, ранее непроницаемыми друг для друга областями психологического знания. Так, проблематизируя ее современное состояние, В.Ф. Петренко отмечает: «Психологи тех или иных направлений работают в рамках уже сложившихся парадигм, увеличивая объем эмпирии, и совершенствуют качество используемых методик, но не предлагают никаких кардинально новых идей» [1. С. 94]. Проблема современной психологии, по мнению В.Е. Клочко, заключается в том, что «самопроизвольно множатся “знания в лохмотьях”, а выстроенные локальными парадигмами, на которых базируются теории, “концептуальные перегородки” недостаточно проницаемы для конструктивного диалога» [2. С. 157]. М.С. Гусельцева [3] отмечает, что современной психологии, переходящей на постнеклассический этап развития, необходимо налаживать научную коммуникацию и стремиться к взаимной согласованности как психологических теорий, так и теории и практики. В контексте обозначенной современной тенденции в данной статье предлагается рассмотреть проблему осознания на пересечении двух традиционно непроницаемых друг для друга областей психологии: психоанализа и культурно-деятельностного подхода. Взаимная непроницаемость этих областей обусловлена в первую очередь различными предметами исследования: в психоанализе - бессознательное, в культурно-исторической психологии - высшие психические функции. Традиционным объектом психо- Механизм осознания жизненных смыслов анализа является невротизированная личность взрослого, а в концепции Л.С. Выготского - культурно развивающийся ребенок. Казалось бы, ничего общего. Но если посмотреть на эти области с методологической позиции, мы обнаружим один ключевой для обеих концепций компонент: и в том и другом случае идеальным объектом выступает осознающая себя в своем бытии личность. В обеих концепциях центральное значение придается осознанию: в одном случае бессознательного, в другом - натуральных культурно не опосредованных психических структур. Концептуальной основой, позволяющей проводить соответствующие параллели и выступать в качестве метапозиции по отношению к психоанализу и культурно-деятельностному подходу, является методология гуманитарного познания. Ключевые положения гуманитарной, постнеклассической по своей сути, методологии, которая противопоставляется естественнонаучной рациональности, сформулированы в работах таких авторов, как А. Лоренцер, М.М. Бахтин, Н.А. Бердяев, Л. Бинсвангер, В.Е. Клочко, Н.О. Лосский, М.К. Мамардашвили, П. Рикер и др. Основной методологической единицей в гуманитарной методологии выступает не объект, как в случае естественно-научной парадигмы, а субъект, наделенный сознанием или, другими словами, осознающий (следует добавить - диалогически и феноменологически) свое бытие субъект. Собственно, и два рассматриваемых нами подхода являются, с нашей точки зрения, вариантами гуманитарной методологии, что обосновывается в соответствующей нашей статье [4]. В данной статье мы показываем продуктивность такой методологической позиции для экспликации и понятийной артикуляции механизма осознания. Обратимся собственно к проблеме осознания. Дело в том, что в современной психологической литературе термин «осознание» в значительной степени не определен. К нему применяют все возможные филологические эпитеты. Это и понимание, и признание, и прояснение, и усмотрение, и прозрение и т.д. Эти эпитеты представляют собой не понятия, которые бы в себе отражали сущность явления, его механизм, а, скорее, взаимозаменяемые термины обыденного языка, отражающие процессуальный аспект сознания. Существуют и более или менее приемлемые теоретические характеристики, представляющие осознание как объективацию, амплификацию, вербализацию, обобщение, осмысление. Они представляют собой некий вариант концептуальной категоризации термина, но без его содержательной и инструментальной рефлексии. Даже в психоанализе, в котором осознание, казалось бы, является центральным психологическим процессом и «психотерапевтическим упованием» [5], такая рефлексия фактически отсутствует, в связи с чем для его содержательной реконструкции приходится эксплицировать тот контекст, в котором этот термин использовался в психоаналитических текстах, и объективировать то значение, которое в нем подразумевалось. Но выделение эмпирического значения - это еще не есть понятийная рефлексия. В философии термин «осознание» имеет более или менее определенное значение, отождествляемое с явлением сознания, которое было концептуа-29 В.С. Кубарев лизировано Декартом. Как отмечает М.К. Мамардашвили, под явлением сознания «имеется в виду не то или иное конкретное содержание, нами осознаваемое, а само событие, явление сознания, в универсальной форме которого (если оно произошло) непрерывным и далее внутри себя неразличимым образом связаны два крайних термина: воспринятость того или иного обстояния дела в действительности и сознание, что “я именно это обстояние дела воспринимаю... в смысле неразрывности содержания некоторого происшедшего события с фактом знания, что это событие произошло. Этот рефлексивный феномен является условием объективации воспринятых событий”» [6]. В данном случае сознание выступает как экран, на котором, с одной стороны, отражается событие мира, и с другой - как бы фактом такого экранирования / отражения это событие осознается как объективно произошедшее. Таким образом, осознание предстает как рефлексивный акт удвоения отражения (несовпадения с самим собой, разли-ченности [7]), одна сторона которого объективируется. Идентичное представление о явлении сознания, которое отождествляется с осознанием, можно встретить у Гегеля: «Сознание есть, с одной стороны, осознание предмета, а с другой стороны, осознание самого себя: сознание того, что для него есть истинное, и сознание своего знания об этом» [8. С. 286]. В.А. Лекторский, рассматривая сознание и самосознание как особого рода знание, отмечает: «Если я утверждаю, что знаю что-то о чем-то, то это предполагает одновременное осознание мною следующих моментов: во-первых, того, что мое знание говорит о некотором объекте, не совпадающем с этим знанием, внеположным ему; во-вторых, что это знание принадлежит мне, что процесс познания осуществляю я; в-третьих, что я претендую на выражение в знании действительного, реального положения дел и могу подтвердить эту свою претензию посредством той или иной процедуры обоснования знания» [9. С. 4]. Аналогичную мысль формулирует А.Г. Спиркин: «Но животные не знают, а человек знает о своем знании: он знает и то, что он знает, и то, что знает он, и то, что именно он знает. Далее, человек осознает не только то, что нечто знает, но и то, что он далеко не все знает, что за пределами его знаний простирается великий океан неведомого» [10. С. 142]. В последних формулировках мы видим, помимо факта рефлексивного удвоения и объективации отражения, еще и его отнесенность к Я. Идентичным образом, но с определенными дополнениями, осознание понимается и в психологии. Так, В.В. Столин отмечает: «Самая общая характеристика сознаваемости (сознательности) психических процессов состоит в констатации двух феноменов: 1) человек может осознать то, что он воспринимает, то, что он вспоминает, о чем мыслит, к чему внимателен, какую эмоцию испытывает; 2) человек может осознать, что именно он воспринимает, вспоминает, мыслит, внимателен, чувствует» [11. С. 16]. Е.А. Климов определяет осознание как «процесс рефлексирования, т.е. способность человека отдавать себе тот или иной отчет о происходящем вокруг него или в его внутреннем мире и в организме» [12]. В.М. Аллахвердов 30 Механизм осознания жизненных смыслов определяет его похожим образом: «Сознание как эмпирический термин отражает эмпирическое явление - осознанность, эмпирический факт представленности субъекту картины мира и самого себя... как выраженная в словах способность испытуемого отдавать себе отчет в том, что происходит» [13. С. 116], то, что можно назвать «осознанностью», «самоочевидностью», «непосредственной данностью» сознания» [Там же. С. 253]. Эта самоочевидность принимается В.М. Аллахвердовым за априорный эмпирический факт сознания / осознания, не обладающий генезисом. Фактически здесь воспроизводится понимание явления сознания Декарта. В унисон В.М. Аллехвердову вторит А.Ю. Агафонов: «Несомненно одно: именно осознанность порождает у человека убеждение в наличии знания о том, что он знает, и то, что знает именно он, а не кто-то за него. Таким образом, субъект как носитель сознания не может сомневаться в факте наличия в данный момент времени некоторых осознанных переживаний независимо от того, какова их эмоциональная, модальностная или иная специфика» [14. С. 25]. Фактически в приведенных определениях под осознанием понимается способность к осознанию, которая рассматривается как атрибут психики человека. К таким способностям также относят: способность отдавать себе отчет, способность увидеть себя находящимся в определенном месте пространства и времени, способность увидеть себя находящимся в определенной системе отношений с людьми, способность к планированию, способность оценивать знания, намерения, мыслительные процессы у других индивидов и т.д. Можно выделить еще одну традицию использования термина «осознание» в психологии. В ее рамках этот термин как бы приклеивается к предмету осознания (в качестве предмета в основном рассматриваются различные аспекты личностного бытия), подчеркивая в последнем опять же факт удвоения / объективации и различенности. Так, К. Ясперс обозначает «способы, посредством которых Я осознает само себя» [15. С. 159]: осознание себя в качестве активного существа (чувство деятельности); осознание собственного единства; осознание собственной идентичности; осознание того, что Я отлично от остального мира, от всего, что не является Я» [Там же]. В психоанализе, а также в различных практикоориентированных текстах такое приклеивание к предмету термина «осознание» является повсеместной практикой: осознание отношения к себе других, осознание противоречия, осознание текущего момента, осознание всего, что мешает способности жить, осознание ответственности за свою жизнь, осознание фальшивых ролей, осознание собственных агрессивных, враждебных чувств или чувств, которые отрицались, осознание принятых в семье схем взаимосвязей, осознание нереалистичных амбиций, осознание расщепленных частей личности, осознание своего Я и т.д. И в представлении об осознании как способности, и как некоем ярлыке, приклеиваемом к содержаниям сознания, никак не раскрывается собственно само осознание. Его механизм, как и деятельность осознания, остается совершенно непонятным. Это напоминает ситуацию с вниманием в клас-31 В.С. Кубарев сической психологии сознания, когда им объяснялись отчетливость и ясность фокальных содержаний сознания, но само оно оказывалось в тени теоретической рефлексии, в связи с чем Э.Д. Рубин, как и классики гештальтпсихологии, признал его несуществующим. Проблемный характер теоретической рефлексии понятий сознания и осознание отмечает Г.В. Акопов. Завершая анализ различных попыток определения сознания и осознания, он заключает: «... можно констатировать, как это сделал более десяти лет назад В.П. Зинченко, что мы не имеем сколько-нибудь строгого определения понятия “сознание”» [16. С. 81]. Если термин «сознание» в философии и психологии хоть как-то пытались предметно определить, то осознание оказалось просто процессуальным аспектом сознания. Одним из свидетельств понятийной непроработанности термина «осознание» является и тот факт, что в известных психоаналитических словарях [17-22] он вообще отсутствует! А в философских и общепсихологических словарях ему придается крайне размытое значение по принципу «осознание -это способность осознавать». Несмотря на повсеместное его использование, не теряет своей остроты вопрос: в чем, собственно, заключается осознание, как оно разворачивается, в каких терминах мы можем воссоздать механизм его конструкции? При решении этого вопроса нас в первую очередь интересует осознание человеком личностных аспектов своего бытия, или осознание бессознательного. Что касается познавательной сферы, то идентичный вопрос относительно формирования осознанных понятий в свое время задавал Л.С. Выготский: «.как совершается переход от неосознанных к осознанным понятиям на протяжении школьного возраста?» [23. С. 406]. Ответом была его теория формирования высших психических функций у ребенка. В этой связи в нашей статье, применяя концептуальный аппарат культурно-деятельностного подхода для теоретической рефлексии механизма осознания жизненных смыслов, мы хотим, с одной стороны, продемонстрировать его эвристичность для осмысления психоаналитического опыта, а с другой - раскрыть этот механизм в его живом функционировании, т.е. как бы помыслить осознание в действии. Мы не просто расширяем предметное поле культурно-деятельностного подхода, но и показываем плодотворность этого расширения с точки зрения понятийной рефлексии механизма осознания. При этом подчеркнем, что осуществляемая нами реконструкция механизма осознания производится не в формальнологической плоскости, а в феноменологической, что позволяет сконцентрироваться не на отвлеченных теоретических построениях, а на содержании самого предмета анализа. Стоит отметить, что многие философы и психологи, говоря об осознании как особой рефлексивной деятельности, а не только как о явлении сознания, отмечают его продуктивный и социально опосредованный характер. Так, подчеркивая продуктивность рефлексии В.А. Лекторский писал: «Я также рефлективно анализирую самого себя в свете того или иного принятого мною идеала личности, выражающего тип отношения к другим людям, т.е. социально опосредующего мое отношение к самому себе. 32 Механизм осознания жизненных смыслов Когда я анализирую себя, пытаюсь дать отчет в своих особенностях, размышляю над своим отношением к жизни, стремлюсь заглянуть в тайники и глубины собственного сознания, я тем самым как бы хочу “обосновать” самого себя, лучше укоренить систему собственных жизненных ориентиров, от чего-то в себе навсегда отказаться, в чем-то еще больше укрепиться. В процессе и в результате рефлексии происходит, таким образом, изменение и развитие моего индивидуального Я» [9. С. 267]. Л.С. Выготский, рассматривая осознание как культурно опосредованную деятельность по формированию высшей психической функции, также подчеркивал его продуктивный характер. Осознание преобразует натуральную психическую функцию в высшую, приводит к изменению строения психической функции, делая ее осознанной, системной и произвольной. Осознание, с его точки зрения, по сути, представляет собой обобщение субъектом «собственных психических процессов, приводящее к овладению ими» [23. С. 411]. Спонтанно сложившиеся неосознанные психические образования (например, житейские понятия) благодаря обобщению приобретают новую структуру (в ней внимание направляется не на объект, а на акт мысли, схватывающий объект), становятся осознанными и произвольными. Для Л.С. Выготского осознавание означает одновременно обобщение / развитие / овладение психической деятельностью. Безусловно, осознание в этом ключе является социально опосредованной деятельностью. По сути, идентичное, но завуалированное в практике и теоретически не отрефлексированное, представление об осознании мы обнаруживаем в психоанализе, с той разницей, что предметом осознания в нем выступали не познавательные процессы, а бессознательные личностные структуры, являющиеся внутренней формой жизни человека (или как, их обозначил Л. Бинсвангер, смысловые матрицы). Продуктивный развивающий характер осознания был продемонстрирован практикой психоанализа в его различных вариациях. Если обобщить понимание осознания в его развивающем психотехническом аспекте, которое подразумевается различными психоаналитически ориентированными авторами, то его можно свести к следующим определениям: 1. Осознание - это процесс вербализации бессознательных (до этого скрытых, непризнаваемых или отвергаемых) смысловых образований (личностных смыслов) и их интеграция в сознание (имеющееся знание о себе и мотивах деятельности, что зачастую предполагает признание их нелицеприятного характера), в результате которого происходит амплификация (расширение и углубление) сознания. При этом подчеркивается [24], что результатом является не сама по себе амплификация содержаний сознания (хотя это немаловажно) и даже не разрешение внутреннего конфликта, а овладение («расширение воли») динамическими образованиями личности (установками, инстинктивными побуждениями, иррациональными желаниями и др., т. е. в конечном итоге бессознательной душевной жизнью): «...конфликты, лежащие в основе симптомов, не являются разрушенными или устраненными анализом, но, скорее, становятся лучше управляемыми 33 В.С. Кубарев при помощи новых и более адекватных решений, принимаемых пациентами» (Дж. Пфеффер; цит. по: [25. С. 36]). Идея, что осознание приводит к овладению динамическими образованиями личности, здесь очевидна. Что же в этом смысле представляет собой осознание? При попытке «ответить» на этот вопрос авторы представляют осознание как движение изначально неосознаваемых смысловых образований, рассматриваемых обычно в качестве причин дисфункциональных отношений человека, по уровням осознанности внутри замкнутого на себе психического аппарата, движения, в процессе которого происходит овладение внутриличностной динамикой, опять же за счет ее вербализации. Таким образом, осознание понимается: а) как естественный процесс, а не как конструктивная деятельность; б) как процесс, происходящий в замкнутом на себе психическом аппарате. Такое определение осознания часто рассматривается как психоаналитическое, что не совсем правомерно, хотя и встречается у многих психоаналитиков. Скорее, его можно назвать натуралистическим (в значении Г.П. Щедровицкого), так как оно описывает осознание как сам по себе происходящий внутренний процесс самодвижения квазиобъективных психических содержаний по различным уровням осознанности вне активного (конструктивного, содержательного, деятельностного) участия в нем субъекта. Здесь мы имеем в виду не то, что субъект никак не принимает участия в этом процессе (безусловно, принимает, ведь именно проблемный характер его жизненных отношений мотивирует субъекта к осознанию), но тот факт, что сама его рефлексивная деятельность осознания теоретически не раскрывается. То есть остается открытым вопрос: как субъект это делает и в чем, собственно, состоит механизм осознания? При этом транзитивность и интенациональность осознания подразумеваются. 2. Осознание - мыслительная деятельность (осмысление), направленная на обобщение разрозненных элементов опыта и их объединение в целостную структуру, которая придает опыту внутреннюю связанность и каузальную обоснованность, т.е. смысл. Мышление в данном случае противопоставляется чувственной картине непосредственно наблюдаемого (это уровень восприятия) и связывается с обобщенной знаково-символической картиной, в которой представлены непосредственно не наблюдаемые внутренние структуры личности, связанные каузально-динамическими отношениями. Осознать в данном контексте означает реконструировать, обобщить эти скрытые за чувственной поверхностью жизненного опыта каузально-динамические структуры. Собственно, в своих работах З. Фрейд, К.Г. Юнг, Л. Бинсвангер и другие на конкретных примерах демонстрируют «как» производится эта реконструкция, сам способ психологического анализа. То есть психоанализ (в ракурсе осознания) - это особая мыслительная деятельность или особая аналитическая практика, посредством которой производятся обобщение конкретного личностного опыта человека, проникновение в смысловую ткань его жизни и познание ее каузально-динамических отношений. Можно выделить несколько вариантов психологической аналитики, посредством которой производится осознание: «каузальная аналити-34 Механизм осознания жизненных смыслов ка» (З. Фрейд [26]), «синтетическая аналитика» (К.Г. Юнг [27]), «экзистенциальная аналитика» (Л. Бинсвангер [28], Ж.П. Сартр [29]), «dasein-анализ» (М. Босс [30]). В основе каждой из аналитик лежит своя концептуальная база, которая определяет различные способы, понятийные конструкции, «логику» и цели аналитико-интерпретативной работы. Благодаря той или иной форме аналитики человек в конкретной терапевтической практике начинает осознавать, т.е. отдавать себе отчем в том, «кто я, что со мной происходит, почему происходит то, что происходит, как происходит, к чему все происходит и каких решений это все от меня требует». З. Фрейд делал ударение на «почему», К.Г. Юнг - на «к чему», Л. Бинсвангер и М. Босс -на «как». В результате такого осознания человек не только познает себя (например, понимает скрытые личностные причины происходящего с ним), но также и овладевает собой и преобразует ту или иную сферу своих жизненных отношений. Собственно, вся эта аналитика работает на то, чтобы произошло осознание. Более того, она и есть конструктивная деятельность осознания, на которое, как пишет Ф.Е. Василюк, и уповает психоанализ. Два обозначенных определения осознания связаны с двумя онтологическими полюсами диалога: «Я для Себя»; «Я для Другого» (М.М. Бахтин). Если мы разрываем две эти системы, то оба аспекта осознания оказываются недостаточными. В первом случае, как мы сказали, получается натуралистическое понимание осознания как замкнутого в границах индивидуального сознания. Во втором случае мы сталкиваемся с проблемой, которую часто приписывают классическому психоанализу: субъектом аналитической деятельности оказывается не сам человек как носитель своего уникального живого опыта, а психотерапевт, для которого этот опыт выступает как объект его интерпретативной деятельности. Возникает угроза того, что полученные интерпретации, т.е. результаты осознания с соответствующими терминами и объяснительными схемами, могут быть навязаны со стороны психотерапевта или просто превратятся в своеобразную имитацию понимания, интеллектуальную игру, «парящую» над опытом и не имеющую под собой живой феноменологической основы. Таким образом, если мы разрываем на две независимые части диалогическую единицу Я для себя / Я для Другого, то получается, что осознание в его феноменологическом аспекте натурализируется и лишается конструктивно-аналитического элемента, который, в свою очередь, помещаясь на полюс Другого, оказывается отчужденным от живой феноменологической основы личностного опыта, в результате чего личность осознающего, говоря словами М.М. Бахтина, лишается «свободного самооткровения». Обсуждение результатов С нашей точки зрения, обозначенный разрыв преодолевается в рамках культурно-деятельностной методологии Л.С. Выготского, в контексте которой осознание может быть рассмотрено как разворачивающаяся в диалоге рефлексивная деятельность по конструированию жизненных смыслов 35 В.С. Кубарев опосредованно знаково-символическими образованиями. В одной из своих статей [31] мы показали, что осознание жизненных смыслов может исследоваться с помощью метода решения задачи на смысл сновидения (отметим, что и в психоанализе аналитическую деятельность по осознанию авторы демонстрировали на примерах анализа сновидений, который совершался в пространстве психотерапевтического диалога). Его применение, основанное на принципах феноменологического подхода к пониманию сновидений [32], позволило нам построить модель рефлексивной деятельности, отражающей различные формы аналитической работы, посредством которой респонденты, следуя определенной психотехнической процедуре (более подробно см.: [31]), осуществляли для себя содержательную реконструкцию и переоценку значимости своих жизненных смыслов. Далее, используя результаты и феноменологический материал проведенного нами исследования и рассматривая их сквозь призму культурнодеятельностного подхода, мы раскроем феноменологическую картину деятельности осознания, осуществляемой в процессе решения задачи, на смысл сновидения (при этом не обойдемся без определенных теоретических экспликаций и параллелей). Логика дальнейшего изложения отражает феноменологическую реконструкцию принципа работы механизма осознания в его рефлексивно-деятельностном воплощении. 1. Изначальная слитность сознания и жизненной ситуации Респондент приходит к нам, погруженный в свои жизненные отношения, и не осознает внутренние смысловые структуры (жизненные смыслы), определяющие характер этих отношений. Здесь мы исходим из концептуального допущения, что смысл жизненной ситуации, смысл жизненных отношений не «написан» на самой этой ситуации и отношениях, но является их внутренней структурой, реконструкция которой требует особых аналитических процедур. Собственно, об этом писал К.Г. Юнг, отмечая изначальную (дотерапевтическую) слитность сознания субъекта с объектом, т.е. его жизненной ситуацией. А.Н. Леонтьев, приводя пример решения задачи на смысл, также описывает человека, изначально погруженного в свои жизненные отношения. О том, что это действительно так, свидетельствует удивление, которое респонденты в нашем исследовании испытывали, когда за сновидением обнаруживали смысловые матрицы в виде определенного способа выстраивания жизненных отношений, определявшие содержание их жизненного опыта. Это особенно видно в письменных транскриптах респондентов на начальном этапе аналитической работы (этот этап мы назвали проблематизацией). Например, респондент Оля замечает: «Ну, мне кажется сейчас, что я с каким-то вот удивлением встретила, какие-то вот неприятные явление которые я замечала в своей жизни раньше, вот. Об ограничении моих стремлений живых, настоящих... Установление препятствий каких-то, защит. Недоумение связанно с обнаружением старых препятствий». Респондент Саша: «Мои мысли и переживания сейчас связаны с этим принципом “от обратного”. Это мне очень не понравилось. Оказывается, быть не таким как все не позволяет обрести себя». Отметим, что 36 Механизм осознания жизненных смыслов разотождествление с объектом в нашем случае происходит опосредованно сюжетом сновидения, а не непосредственно. Что представляют собой сновидения по отношению к этой изначальной слитности сознания с жизненной ситуацией? Для ответа на этот вопрос обратимся к представлениям Л.С. Выготского о роли детской игры в развитии сознания ребенка. Остановимся только на ключевых для нас аспектах. Основная особенность игры заключается в том, что она конструирует определенное семиотическое имитационное мнимое пространство, в котором происходят игровые действия, не связанные с видимым полем. Ребенок имитирует реальные действия с предметами, замещая их значениями слов. В результате таких игровых замещений, как отмечает Б.Д. Эльконин, происходят снятие предметной стороны действия и обнажение его внутренней, смысловой стороны. Л.С. Выготский подчеркивает: «Действие в ситуации, которая не видится, а только мыслится, действие в воображаемом поле, в мнимой ситуации приводит к тому, что ребенок научается определяться в своем поведении не только непосредственным восприятием вещи или непосредственно действующей на него ситуацией, а смыслом этой ситуации» [33. С. 211]. Из сказанного следует, что для того, чтобы отделить смысл от ситуации, необходимо особое имитационное семиотическое (знаково-символическое) пространство, за счет которого происходит замещение реальных действий и предметов их знаково-символическими референтами. По мнению Л.С. Выготского, благодаря этому действие «впервые приобретает смысл, т.е. осознается», его значение отрывается от предмета, благодаря чему происходит переход к оперированию чистыми значениями (в нашем случае чистыми смыслами). Собственно, именно в этой функции особого имитационного пространства, не связанного с видимым пространством жизненной ситуации, мы обращаемся к сновидениям, которые, отметим, как и игра, являются феноменом воображения с той разницей, что если игра, по замечанию Л.С. Выготского, - это воображение в действии, то сновидение - действующее воображение. Продолжая параллели, отметим, что одну из функций символических образов сновидения К.Г. Юнг видел в том, что посредством них происходит отделение сознания от объекта, смысла жизненной ситуации от самой ситуации. Таким образом, сновидения выступают в роли особого символического пространства, рефлексивное движение в котором позволяет отделить жизненный смысл ситуации от самой жизненной ситуации, заместив его знаково-символическими референтами. Ю.М. Лотман видел в таком замещении механизм удвоения реальности (не только игрой, но ив целом искусством), лежащий в основе смыслопорождения [34]. По сути, на этой знаково-символической «площадке» разворачивается и осваивается рефлексивная самодеятельность, направленная на осознание жизненных смыслов. 2. Замещение единиц жизненного мира знаково-символическими референтами Для того чтобы произошло замещение реальных единиц жизненного мира, связывающих их жизненных отношений и способа жизни, опреде-37 В.С. Кубарев ляющего форму существования этих отношений, необходимо, чтобы символические единицы сновидения (его отдельные образы) приобрели знаковую функцию, т.е. чтобы они предстали в качестве семиотических образований, имеющих определенное значение. Для этого психолог посредством вопросов (Что Вы чувствуете в связи с этим образом? О чем Вам это чувство говорит? Какие жизненные ситуации сопровождаются похожим чувством?) и заданий (Вообразите, что Вы художник и рисуете картину, в которой выделенное Вами переживание отражается. Что это за картина, опишите ее, как она называется и о чем рассказывает) активизирует воображение, приглашая респондента к свободному фантазированию, применяя при этом техники активного слушания и фокусировки на переживаниях. В результате каждый образ сновидения приобретает определенное конно-тативное значение, которое впоследствии рассматривается как знаковосимволический референт образа себя или смысла жизненных отношений. После реконструкции коннотативных значений респонденту ставится задача построить рассказ (нарратив) о своей жизненной ситуации и предложить ответ на вопрос: «О чем повествует сновидение (те реконструировать целостный сюжет), и какое это имеет отношение к происходящему в его жизни?». В данном случае особенность решения задачи заключается в том, что респондент сам, без помощи психолога, пытается ее решить, используя те феноменологические картины, которые у него возникали в процессе реконструкции коннотативного значения. Наше исследование показало, что уже на этом этапе работы происходит символическое замещение, в результате которого респонденты, с одной стороны, начинают видеть за сновидением ту или иную внутреннюю форму жизненных отношений и, с другой - замещать предметы и отношения жизненного мира образами сновидения (при этом чем больше опыта анализа сновидений у респондента, тем более выраженной оказывается у него способность к символическому замещению). Например, респондент Аня отмечает: «Ну, в общем я поняла, что это не посторонние люди. То есть эта женщина - это я. Эти два мужчины - это мой бывший муж и настоящий молодой человек. Вот, и я тоже поняла, что... что там открывать тайну, да... это я считаю, что я открываю, то что... ну, вот своему молодому человеку, то что я вижу свой другой жизненный путь, в который он там не попадает. Вот.» В этом отрывке отчетливо видно, что Аня соотносит образ сновидения с реальными отношениями с мужчиной. Благодаря этому открывается перспектива понять содержание этих реальных отношений через содержание замещающего образа. Этот же респондент при анализе другого сновидения: «Вот даже образ автобуса как будто внешний и равнодушный к внутреннему, ну это тоже такой своеобразный уход от проблемы. То есть показать там, обществу, что ты достаточно успешный человек, что такое там кому-то, может, самой себе в том числе. Хотя на самом деле там внутри у меня полный раздрайв! И борьба с переменным успехом разных частей». Как видно, благодаря сопоставлению автобуса (образ сновидения) со способом самопрезентации 38 Механизм осознания жизненных смыслов в жизни, во-первых, происходит замещение этого способа его знаковосимволическим референтом (автобусом) и, во-вторых, открывается перспектива осмыслить свой способ самопрезентации через содержание замещающего образа («на самом деле там внутри у меня полный раздрайв»). На этих примерах мы видим, что в процессе реконструкции смысла отдельных образов сновидения последние превращаются в «визуальные метафоры» (В.Ф. Петренко) отношений с другими и с самим собой. Итак, замещение происходит за счет того, что образы сновидения превращаются в «визуальные метафоры» жизненной ситуации, в результате чего респондент оказывается в мнимом, можно сказать, символическом пространстве сознания. Его основополагающая функция заключается в том, что оно обнажает смысловую имплицитную сторону жизненной ситуации и открывает феноменологический горизонт жизненного мира, из которого исходит дальнейшее осмысление жизни. Но замещение еще не означает перенесения на жизненную ситуацию. В большинстве случаев замещение носит, скорее, гипотетический характер, когда за тем или иным образом сновидения респондент видит не столько себя, сколько некоего возможного человека, т.е. персонажа, способ существования которого лишь гипотетически можно перенести на себя. Например, респондент Наташа: «Так, я понимаю, что вот эта первая бабушка, первая квартира... это ненастоящий, что ли, мир, который мне не нравится. Не настоящий просто в том смысле, что он какой-то. не мой, во-первых, а во-вторых, двуличный. Вроде как в этом мире я чего-то, вот что дети, что это “новые отношения”. Нахожу какую-то такую. сторону, но пытаюсь в ней применять. получается, пытаюсь к ней применять вот эти законы того мира (все-таки раз я пытаюсь контролировать детей). Получается, вроде бы, так что. если увидела новую сторону, то и, наверно, я на верном пути». В предложенном транскрипте видно, что Наташа не то чтобы сомневается, она лишь допускает наличие у себя подобной динамики, но еще не впускает ее в себя и свой жизненный мир, о чем свидетельствуют такие речевые обороты, как «вроде» и «наверно». Такую же тенденцию можно увидеть у респондента Лены Т.: «Ну, если говорить только про сновидение, то оно позволяет понять, что я, в принципе, Славе не нужна как женщина и вообще как будущий партнер по жизни. Не только я и мои стремления, ну, как мне кажется, хорошие, тоже не нужны. И вся та картинка, которую я нарисовала по поводу Славы - это иллюзия. Ну, а касаемо жизни, то, скорее всего, и в жизни так же. Я опять же хотела улучшить. Реальность позволяет понять, что с этим человеком не суждено ничего построить. Ему это не надо просто-напросто. Не надо себя самого обманывать». Обратим внимание, что Лена разделяет две плоскости: сновидение и его смысл («ну, если говорить только про сновидение») и жизненную ситуацию («ну, а касаемо жизни, то, скорее всего.»). При этом она не спешит переносить смысл сновидения на ситуацию, о чем свидетельствует выражение «скорее всего». Она допускает, что это так, но еще не «впускает в себя», не готова это принять. То есть, еще раз подчерк- 39 В.С. Кубарев нем, замещение лишь открывает поле для осмысления жизненной ситуации, но еще не производит его, не трансформирует смысловые структуры жизни, не делает их предметом для деятельности переживания. Находясь на этом этапе осознания (проводя параллели с полюсами диалога, мы можем назвать его модусом «Я для себя»), респонденты либо рассматривают сновидение как некий спектакль, смысл которого они пытаются воссоздать по коннотативным значениям, выступая как бы его зрителем, либо видят в сновидении отражение содержания своих жизненных или внутриличностных отношений, одновременно, как мы показали, лишь допуская, но не принимая, не впуская в себя, или, говоря словами К.Г. Юнга, не становясь его реальным участником. Здесь респонденты находятся в созерцательной, но не деятельностной позиции. 3. Перенесение знаково-символ
Петренко В.Ф. Многомерное сознание: психосемантическая парадигма. М. : Новый хронограф, 2010. 440 с.
Клочко В.Е. Постнеклассическая трансспектива психологической науки // Вестник Томского государственного университета. 2007. № 305. С. 157-164.
Гусельцева М.С. Методологические кризисы и типы рациональности в психологии // Вопросы психологии. 2006. № 1. С. 3-15.
Кубарев В.С. Психотерапия как метод гуманитарного познания сквозь призму мето дологии Л.С. Выготского // Консультативная психология и психотерапия. 2016. Т. 24, № 3. С. 149-170. DOI: 10.17759/cpp20162404008
Василюк Ф.Е. Методологический анализ в психологии. М. : МГППУ ; Смысл, 2003. 240 с.
Мамардашвили М.К. Классический и неклассический идеалы рациональности. М. : Лабиринт, 1994 // Куб : электронная библиотека. URL: http://www.koob.ru/mamardashvili/ (дата обращения: 27.03.2013).
Молчанов В.И. Исследования по феноменологии сознания. М. : Территория будуще го, 2007. 456 с.
Гегель Г. Лекции по философии духа. М. : Изд. дом «Дело» РАНХиГС, 2014. 304 с.
Лекторский В.А. Субъект. Объект. Познание. М. : Наука, 1980. 357 с.
Спиркин А.Г. Сознание и самосознание. М. : Изд-во полит. лит., 1972. 304 с.
Столин В.В. Самосознание личности. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1983. 288 с.
Климов Е.А. Общая психология. М. : ЮНИТИ, 1999. 510 с.
Аллахвердов В.М. Сознание как парадокс СПб. : Изд-во ДНК, 2000. 528 с. (Экспериментальная психологика; т. 1).
Агафонов А.Ю. Когнитивная психомеханика сознания, или Как сознание неосознанно принимает решение об осознании. Самара : Универс групп, 2006. 348 с.
Ясперс К. Общая психопаталогия. М. : Практикум, 1997. 1053 с.
Акопов Г.В. Психология сознания: вопросы методологии, теории и прикладных исследований. М. : Ин-т психологии РАН, 2010. 272 с.
Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б. Словарь по психоанализу // Куб : электронная библиотека. URL: http://www.klex.ru/5w3 (дата обращения: 30.03.2016).
Лейбин В.М. Словарь-справочник по психоанализу // Национальная энциклопедическая служба. URL: http://vocabulary.ru/dictionary/881/symbol/206 (дата обращения: 30.03.2016).
Райкрофт Ч. Критический словарь психоанализа // Куб : электронная библиотека. URL: http://www.klex.ru/2tm (дата обращения: 30.03.2016).
Хиншелвуд Р.Д. Словарь кляйнианского психоанализа : пер. с англ. М. : Когито-Центр, 2007. 566 с.
Штерба Р. Словарь по психоанализу / пер. с нем. М.М. Бочкаревой. Ижевск : ERGO, 2017. 255 с.
Психоаналитические термины и понятия : словарь / под ред. Б.Э. Мура, Б. Д. Фаина; пер. с англ. А.М. Боковикова, И.Б. Гриншпуна, А. Фильца. М. : Класс, 2000. 304 с.
Выготский Л.С. Мышление и речь ; Психология. М. : Апрель-экспресс, Эксмо-пресс, 2000. 1009 с.
Василюк Ф.Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций). М. : Изд-во Моск. ун-та, 1984. 200 с.
Антология современного психоанализа / под ред. А.В. Россохина. М. : Ин-т психологии РАН, 2000. Т. 1. 488 с.
Фрейд З. Психология бессознательного : сб. произведений / сост., науч. ред., авт. вступ. ст. М.Г. Ярошевский. М. : Просвещение, 1989. 448 с.
Юнг К.Г. Психология бессознательного / пер. с нем. В. Бакусева, А. Кричевского, Т. Ребеко. М. : АСТ-ЛТД ; Канон+, 1998. 400 с.
Бинсвангер Л. Бытие-в-мире. Введение в экзистенциальную психиатрию. М. : КСП+ ; СПб. : Ювента, 1999. 300 с.
Сартр Ж.П. Бытие и ничто: опыт феноменологической онтологии / пер. с фр., предисл., примеч. В.И. Колядко. М. : Республика, 2000. 639 с.
Босс М. Недавние размышления о дазайн-анализе // Консультативная психология и психотерапия. 2009. № 2. С. 147-167.
Кубарев В.С. Решение задачи на смысл сновидения как метод исследования осознания жизненных смыслов // Культурно-историческая психология. 2015. № 3. С. 8699. DOI: 10.17759/chp.2015110308
Лэнгле А. Феноменологический подход в экзистенциально-аналитической психотерапии // Московский психотерапевтический журнал. 2009. № 2. С. 110-129.
Выготский Л.С. Психология развития ребенка. М. : Смысл ; Эксмо, 2006. 512 с.
Лотман Ю.М. Статьи по семиотике и топологии культуры. Таллин : Александра, 1992. 472 с.
Пятигорский А.М. Непрекращаемый разговор. СПб. : Азбука-классика, 2004. 432 с.
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества // Либрусек. URL: http://lib.rus.ec/b/ 375783/read (дата обращения: 27.03.2018).
Эльконин Б.Д. Психология развития. М. : Академия, 2001. 144 с.
Юнг К.Г. Практическое использование анализа сновидений // Психология переноса. Киев: Рефл-Бук, Ваклер, 1997. 298 с. // Куб : электронная библиотека. URL: http://www.klex.ru/62t (дата обращения: 27.03.2013).
Кубарев В.С. Исследование динамики смыслобразования, выраженной в сюжетах сновидений // Омский научный вестник. 2013. № 1 (115). С. 116-122.
Кубарев В.С. Топология осознания жизненных смыслов // Вопросы психологии. 2018. № 1. С. 104-117.
Лотман Ю.М. Структура художественного текста / Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб. : Искусство, 1998. С. 14-285.
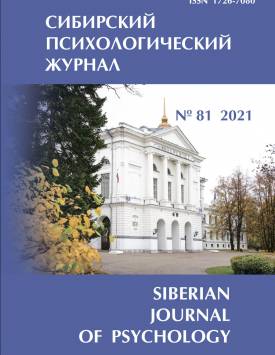

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью