В западных Vygotsky studies в последние годы подвергается критике созданная Л.С. Выготским теория исторического развития человеческой психики: от «примитива», через «культурного человека» - к «сверхчеловеку» (в посмертных советских изданиях трудов Выготского редакторы заменяли этот термин на «нового человека»). В понятии примитива усматриваются колониалистское высокомерие и расизм, а понятие сверхчеловека приписывается влиянию Ф. Нитцште и марксистских революционных утопий. При этом не принимается во внимание критика Выготским современного «культурного человека». В статье выясняется действительное содержание этих понятий в теории Выготского в ходе полемики с Меган Бэнг, профессором кафедры педагогической психологии Университета Вашингтон. Определены исторические рамки существования примитивного человека: от начала трудовой деятельности - до изобретения «сигнификации». Эра сверхчеловека наступит вследствие «политехнизации труда», т.е. превращения его в прикладную науку. В «Педагогической психологии» Выготский продумывает основы политехнического обучения «завтрашнего дня», целью которого является формирование свободной, универсально развитой личности, творящей условия своей жизни и регулирующей свои психологические функции.
The primitive and superman in L.S. Vygotsky's cultural psychology.pdf В наши дни слова «примитив» и «сверхчеловек» имеют скверную репутацию: от первого тянется рефлекторная дуга к колониализму, от второго -к ницшеанскому «падающее толкни». Между тем в работах Выготского эти два термина указывают реперные точки шкалы культурного развития. Он много писал о примитивном человеке и примитивных культурах, примитивных поведении, памяти и мышлении. Термин «сверхчеловек» встречается редко, но означает ни больше ни меньше как идеальный тип человека. Это цель всего культурно-исторического развития человечества и ориентир психологического развития индивида. По Л.С. Выготскому, слова - еще не понятия, они лишь орудия, инструменты для «изготовления» понятий. При помощи одних и тех же слов можно образовать самые разные понятия, и наоборот, любое понятие можно создать при помощи разных слов. И словами же легко разрушить акт понимания. Попробуем разобраться, какие понятия кроются за двумя неполиткорректными терминами в работах Выготского. Прежде всего надлежит определить координатную плоскость, на которой размещаются примитив и сверхчеловек. Выготский представлял процесс нормального развития человека как сплетение двух линий - линии органического роста и линии культурно-исторического развития1. Примитив и сверхчеловек образуют начальную и конечную точки второй линии. Между ними, посередине линии, Выготский помещает «культурного человека». Итак, перед нами троица архетипов: человек примитивный, культурный и сверхчеловек. Посмотрим, чем они отличаются. Начнем в порядке эволюции - с различия между культурным человеком и примитивом. Примитивность и культурность К современным народам, даже самым отсталым, понятие примитива приложимо лишь в некотором условном смысле, подчеркивает Выготский. На самом деле все современные люди представляют собой разновидности человека культурного, просто они прошли культурную историю разной длины. «Примитивного человека в собственном смысле этого слова не существует сейчас нигДе, и человеческий тип, как он представлен у этих первобытных народов, может быть назван только относительно примитивным. Примитивность в этом смысле есть низшая ступень и исходная точка исторического развития поведения человека» [1. С. 68]. Говорить о превосходстве культурного человека над примитивом можно лишь в отношении тех психологических функций, которые именуются «высшими» и развиваются за счет знаковых средств. В этом плане уже младший школьник превосходит в развитии взрослого примитива. Что же касается функций «натуральных», например умения ориентироваться в естественной среде или эйдетический памяти, то уровень их развития у примитива значительно выше благодаря постоянному упражнению соответствующих способностей. В биологическом типе примитива и культурного человека принципиальных различий не обнаружено, прибавляет Выготский, хотя тело человека претерпевает глубокие изменения вследствие развития техники и общественных отношений. Для управления собственным поведением и психологическими процессами культурный человек использует искусственные «стимулы-средства» -знаки, все более сложные и гибкие знаковые системы. Процесс создания и осознанного употребления знаков, т.е. искусственных сигналов, Выготский именует сигнификацией, в отличие от «переменной сигнализации», представляющей собой общение посредством звуков, жестов и прочих сигналов аффективного происхождения2. В тот момент, когда люди начали регулировать процессы общения посредством знаков, примитив превратился в человека культурного. С тех пор это великое историческое событие снова и снова повторяется в онтогенезе - с той разницей, что ребенок не изобретает, а усваивает уже готовые приемы знаковой регуляции поведения. Младенец, как и примитив, начинает использовать знаки для управления чужим поведением (прежде всего руками матери). Управлять своим собственным поведением и душевной жизнью мы научаемся заметно позже. В возрасте от полутора до двух лет ребенок приступает к сигнифика-ции, повторяя открытие примитивного человека. «Активное расширение словаря, проявляющееся в том, что ребенок сам ищет слово... указывает на совершенно новую, принципиально отличную от прежней фазу в развитии ребенка: от сигнальной функции речи ребенок переходит к сигнификативной, от пользования звуковыми сигналами - к созданию и активному употреблению звуков» [3. С. 84]. Сигнификация образует первооснову всех без исключения высших психологических функций. Механизм знаковой регуляции отличает этот культурный слой человеческой психики и поведения от натурального слоя, включающего в себя и весьма сложные «обходные пути» в процессе предметной деятельности (так называемый «практический интеллект»). Орудийные действия шимпанзе, примитивов или детей, совершаемые без опоры на знаки, представляют собой лишь «интеллектуальную вариацию инстинкта», доказывает Выготский. Таким образом, можно обозначить исторические рамки существования «примитивного человека в собственном смысле слова»: от начала трудовой деятельности - до изобретения знаков. Далее наступает эра человека культурного. Свою позицию Выготский резюмирует лаконичной формулой: «Примитивность - отрицательный полюс культурности» [2. С. 39; 4. С. 24]. Идеологические контексты Выготский, хотя и был марксистом, плохо вписывался в рамки марксистско-ленинской идеологии. По воспоминаниям Блюмы Зейгарник, за год до смерти, после партийной чистки Психологического института, «он бегал по комнате как затравленный зверь». Публикация его книги «Мышление и речь» в Америке (1962) совпала с Карибским кризисом. На сей раз помехой оказалась, наоборот, его приверженность марксизму. «Выказывать энтузиазм по отношению к советскому психологу, объявлявшему себя марксистом, было по меньшей мере подозрительным смутьянством. Переводчики значительно сократили книгу на том основании, что она содержала повторения или полемику» [5. P. IX]. Потом, в конце 1970-х гг., в мире начался «бум Выготского» (Vygotsky boom), и кто-то мог решить, что худшие дни остались в прошлом. Но нет, сегодня ему ставятся в вину колониальная установка и «эпистемицид» (эпистемический геноцид) примитивных народов. Создательница «этики деколониальных трансонтологий» в теории обучения и развития Меган Бэнг (Megan Bang, профессор кафедры педагогической психологии Университета Вашингтон, старший вице-президент Фонда Спенсера) преследует цель «извлечь на свет (to unearth) логику колониализма, встроенную в подходы Выготского» и разоблачить «эпистемический расизм» (the epis-temic racism), утверждающий превосходство понятийного мышления над мышлением в комплексах. «Политические и идеологические контексты влияют на научную работу», - заявляет Бэнг [6. P. 118]. То же самое Выготский слышал от своих суровых критиков в начале 1930-х гг. Они, как и Меган Бэнг, первым делом выискивали в научных теориях такого рода «контексты». Это называлось принципом партийности в науке. Экспедиции Александра Лурия в Узбекистан подверглись убийственной критике за низкую оценку интеллекта трудящихся Востока - как класса людей, «примитивно мыслящих» [7. С. 83]. Идеологические ярлыки той поры, конечно, уступали в изяществе «эпистемициду», но были идентичны по смыслу. Один из участников экспедиции был репрессирован, члены партии получили выговоры. Все материалы похоронены в архиве. В работах Выготского они не упомянуты ни словом, а ведь в письмах проделанные опыты характеризовались им как «изумительные и бесконечно ценные», «наш золотой фонд экспериментов», открытый «путь в будущее»... Безусловно, у всякой научной теории имеются разные контексты - не только политико-идеологические, но и экономические, лингвистические, бытовые и пр. В исследовании контекстов нет ничего дурного, если только на этом основании не выносятся суждения об истинности или ложности теории, ее общественной полезности или вредности, не говоря уже о кампаниях охоты на ведьм. Процесс этической деколонизации Меган Бэнг начинает с замены слова «примитивный» на «Коренной» (Indigenous), с прописной буквы, - очевидно, дабы продемонстрировать свое уважение к жертвам колониальной политики. В результате научную формулу «примитивность - отрицательный полюс культурности» вытесняет иДеологическая контроверза «Коренной-колониальный», причем любое невыгодное для Коренных народов сравнение расценивается как следствие колониалистской «презумпции неполноценности» (presumption of Indigenous inferiority). В подобной системе координат не только Выготский, но и сам Маркс выглядит адептом колониализма. Маркс называл родовую общину «примитивной», а Коренных русских - «варварами». И, несомненно, он считал понятие высшей формой мышления в сравнении с любыми другими формами. «Выготский доказывает, что Коренные народы способны мыслишь лишь комплексами, а не понятиями, и что комплексы имеют менее сложную и развитую природу... Колониальность, встроенная в дистинкцию между понятиями и комплексами, далее проявляется при рассмотрении Выготским псевдопонятий... Он находит Коренное мышление нестрогим, сравнивает его с мышлением советских детей и на этом основании относит его к низшей категории развития, нежели понятие» [6. P. 123-124]. В ответ Меган Бэнг ссылается на ряд исследований, обосновавших превосходство знаниевых систем Коренных народов в экологическом и системно-организационном плане. Странно, что сама Меган Бэнг предпочитает доказывать это превосходство при помощи Западных научных понятий, а не Коренных, экологически чистых и «гетерогенных» комплексов. Похоже, она просто не замечает этого противоречия. Нечувствительность к противоречиям, как установил еще Л. Леви-Брюль, является характерным признаком «пралогического мышления». Но это единственная черта, роднящая научную мысль Меган Бэнг с Коренным образом мысли. Для Выготского «примитив» - не идеологическое тавро, но отправной пункт культурного развития человека. КажДый из нас вступал в жизнь примитивом, и сокровищница мировой культуры должна быть раскрыта настежь для всех. Выготский ни за что не согласился бы с теми, кому хочется оградить Коренные народы от данайских даров культуры - Шекспира, Спинозы, Бетховена: пусть, мол, живут, как мать-природа велит... «Вместо колонизационного подхода к проблеме культурного развития отсталых народностей» Выготский предлагал осуществить их «форсированное культурное развитие» [8. С. 367]. При этом ни в коем случае нельзя вырывать детей с корнем из их родной культуры, изолируя от сородичей! Нужно изнутри расширять рамки локальных культур и органически, in situ, «вращивать» личность в мировую культуру. В этом вся разница между культурно-историческим и колонизационным подходами в педологии. «Первейшей задачей педологии является изучение детей нацменьшинств не изолированно, не оторванно от этих специфических культурнобытовых форм, а прежде всего на фоне этих особенностей, в связи с ними, в живом взаимодействии с ними. Проще говоря, перед педологией стоит задача понять ребенка как неотделимую часть и естественный продукт той своеобразной среды, в которой он растет и развивается» [8. С. 370]. В основанной им лаборатории по психологии аномального детства при Медико-психологической станции, а затем, до конца своей жизни, в клинике Экспериментального дефектологического института Выготский вел тяжелую повседневную работу с примитивами, инвалидами и умственно отсталыми детьми, изобретая «обходные пути» для приобщения их к миру культуры. Об этом не мешало бы помнить тем, кто собрался швырнуть в ученого-гуманиста идеологический булыжник - орудие примитива. Ну и, наконец, Меган Бэнг прошла мимо критической оценки современного культурного человека. Выготский называл его уроДом и калекой. Если это расизм, то на редкость самокритичный. Профессионализм и политехнизм Развитие форм труда все больше разрушает непосредственное единство человека с природной средой. Превращение примитива в культурного человека кладет начало его освобождению от власти природных стихий и вызванных ими «страстей души», но платой за эту свободу становится растущее «изуродование человеческой природы», говоря словами Выготского. Под человеческой природой он, как всякий нормальный марксист, имеет в виду не биологическое устройство тела, но труД, некогда превративший животное в человека и созидающий человеческую личность всякий раз заново, с нуля (разумеется, из пригодного для этой цели живого тела с его органическими задатками). Разделение труда на физический и духовный и прогрессирующая специализация трудовой деятельности ведут к тому, что «индивидуум превращается в дробь». Рост культурного могущества человечества достигается за счет деградации личности: «...уродуется, искажается, получает неправильное, одностороннее развитие человеческая личность» [9. С. 124]. Свобода от власти природных стихий покупается ценой рабского подчинения вещам, созданным самим человеком. Где же выход? Как вернуть человеческой природе утраченную цельность и чистоту «примитивной эпохи»? Руссо, Толстой и Меган Бэнг призывают перенимать добродетели у народов, еще не испорченных цивилизацией. Выготский именует эту позицию «реакционным романтизмом». Современный культурный тип подлежит глубокой переплавке3, в том числе и психологической. Но переплавке не в новый, модернизированный вид примитива, а в высший вид человека культурного - в «сверхчеловека». В главе X «Педагогической психологии» (1926) Выготский дает набросок системы воспитания человека будущего. Старая система воспитывала профессионализм, новая «трудовая школа» должна воспитывать политехнизм. В этимологическом плане термин не слишком удачен, поэтому Выготскому приходится специально оговаривать его смысл. «Вопреки точному смыслу слова политехнизм означает не многоремес-ленничество, соединение многих специальностей в одном лице, это, скорее, знакомство с общими основами человеческого труда, с той азбукой, из которой складываются все его формы... Политехнический труд в первый раз за всю историю человечества образует такое пересечение всех важнейших линий человеческой культуры, которое было немыслимо в предыдущие эпохи. Образовательное значение такого труда безгранично, потому что для полного овладения им необходимо полнейшее овладение всем веками накопленным материалом науки» [10. С. 179]. Коротко говоря, политехнический труд представляет собой прикладную науку. Политехническое обучение детей делается возможным и целесообразным лишь в условиях высоко автоматизированной промышленности, где участие физической рабочей силы человека сводится к минимуму. Выготский приводит в пример «главного кочегара на величайших американских фабриках», командующего армией машин при сохранении «совершеннейшей чистоты рук». Понимал ли Выготский, что ни советская, ни даже передовая американская промышленная система еще не созрели для того, чтобы политехнизм мог превратиться в «основной метод трудового воспитания»? Судя по всему, да. Не то что в России, но даже и в Америке, пишет он, процесс политехнизации труда «нельзя ни в малой мере считать законченным» [Там же. С. 191]. Политехническое образование - это далекий ориентир. Не было ни надлежащих материальных условий, ни массового общественного спроса на личность нового типа. «Политехнизм есть правДа завтрашнего Дня, на которую должна ориентироваться школа в своей работе, но эта правда еще не окончательно воплощена сегодня, и перед школой стоят задачи наряду с политехническим образованием удовлетворить и непосредственные житейские потребности, которые предъявляются к ней. Профессионализм, необходимо соблюдаемый в нашей школе, должен пониматься как уступка жизни, как мостик, перебрасываемый от школьного образования к житейской практике» (курсив наш. - А.М.) [Там же]. В рассуждениях Выготского нет ничего утопического. Ему очевидно, что жизнь требует разделения труда и профессионализма - «житейская практика» не благоприятствует воспитанию всесторонних личностей. Даже в наши дни, на заре компьютерной эры, разделение труда все еще продолжает углубляться. Может показаться, что человеческая личность будет дробиться вечно, как число я... Выготский пытается разглядеть «правду завтрашнего дня», т.е. рисует пеДагогический иДеал, благоразумно оговариваясь, что общество еще не готово воплотить его в жизнь. Идеал этот рисуется им не из головы, как поступают утописты, а с натуры: превращение общественного производства в прикладную науку и вытекающая отсюда «политехнизация труда» есть реальный, на глазах совершающийся процесс. Рано или поздно он возьмет верх над процессом разделения труда - тогда и настанет время «переплавки человека». Воспитание сверхчеловека Как Меган Бэнг коробит слово «примитив», так советских редакторов сочинений Выготского смущало слово «сверхчеловек»: в посмертных изданиях они негласно заменяли его на «нового человека». Для идеологий вообще характерно фетишистское отношение к слову - боязнь одних слов и благоговение перед другими, логофобия и логолатрия. При знакомстве же с современными комментариями к «сверхчеловеку» Выготского вспоминаются жалобы лорда Бэкона на «идолов рынка». Хорошая иллюстрация эпиграфа: «Слова прямо-таки насилуют разум, всё запутывая». Дружно отмечается влияние Ницше, самые начитанные авторы упоминают посредников - Л. Троцкого и К. Каутского. Не удивимся, если кто-то из этих ученых мужей и дев, повстречав в письме Выготского фразу «Царство Божие внутри нас» (речь о лаборатории), заговорит о влиянии Св. Писания на культурно-историческую психологию. Несомненно, в трудах Выготского можно обнаружить тысячу самых разнообразных «контекстов», включая библейские, ницшеанские и троцкистские. Говорить о влиянии имеет смысл лишь там, где вместе с термином заимствуется понятие. Можно ли сказать, что Выготский и Ницше более или менее одинаково понимают сверхчеловека? Посмотрим. Ну а бегло начертанный Троцким образ сверхчеловека, без тени аргументации, может претендовать в лучшем случае на статус «псевдопонятия», по классификации Выготского. В статье «Социалистическая переделка человека» (1930) Выготский отмечает, что Ницше был прав, рассматривая современный тип человека как мост к некоему более высокому типу. Этим его правота и исчерпывается. Ницше видит в сверхчеловеке продукт естественного отбора, однако человек по природе своей - «историческое, общественное существо», - возражает Выготский. Поэтому «только поднятие всего человечества на высшую ступень в общественной жизни, только освобождение всего человечества является путем к возникновению нового типа человека» [9. С. 131]. Выготский говорит о «социалистической переделке человека», или о «выплавке» социалистического сверхчеловека. «Каутский прекрасно показал, что создание нового человека есть не предпосылка, а результат социализма», - пишет Выготский, цитируя немецкого марксиста. Социалистический тип человека «будет не исключением, а правилом, он будет сверхчеловеком по сравнению со своими предками, а не со своими ближними» [11. С. 45]. Такой человек стремится быть великим среди великих, а не среди искалеченных карликов, и действовать в союзе с равными ему, стремящимися к общей цели людьми, продолжал Каутский в пику Ницше [12. С. 167-168]. Для Ницше, как известно, социализм был «до конца продуманной тиранией ничтожнейших и глупейших». На этом тему влияния Ницше на Выготского позвольте считать закрытой. Больше оснований говорить о влиянии Каутского и Троцкого, однако они, скорее, пророчествуют о пришествии сверхчеловека, в то время как Выготский разрабатывает научную концепцию его воспитания. Год спустя после выхода в свет «Педагогической психологии», в письме к Лурия 26 июля 1927 г., Выготский сообщает, что близок к подписанию договора на новую книгу по «психологии в аспекте культуры и сверхчеловека» и «бесконечно рад этому заказу» [13. С. 11]. Как мы уже знаем, сверхчеловек образован политехнически, т.е. это разносторонне развитая личность, свободно владеющая «азбукой труда» и применяющая научные знания на практике. Но есть еще и другая, специфически психологическая сторона дела. Овладению природой и общественными отношениями сопутствует овладение субъектом своими психологическими функциями. В марксизме это два полюса одного и того же исторического процесса. Психологическое отношение к себе отражает отношение к другим людям и к внешнему миру в целом. Еще в январе 1924 г., в финале доклада, с которого начался его путь в большую науку, Выготский формулирует идеал «нового человека, сверхчеловека, но не в ницшеанском смысле этого слова, не новую биологическую породу, а социально-организованного, просветленного насквозь во всех тайниках самых стихийных сил организма, освобожденного от самого страшного рабства - самому себе и от самой горькой зависимости - от своих нервов и психики, подчинившего себе игру внутренних сил организма, как и внешних сил природы, - сверхчеловека»4. При этом Выготский ссылается на Троцкого, а слова о «страшном рабстве самому себе» представляют собой аллюзию на «Этику» Спинозы, повествующую об освобождении души из рабства аффектов при помощи «адекватных идей», или понятий разума. Научное овладение природными стихиями включает в себя укрощение «страстей», возникающих из слабости человека перед лицом природы, с одной стороны, и перед лицом порожденных самим человеком «демонов машинерии», включая мегамашины рынка и государства, - с другой. Здесь кроются причины обращения позднего Выготского к проблеме аффектов (культурные аффекты именуются «эмоциями», осознанные аффекты - «переживаниями»). Орудиями освобождения от власти аффектов являются понятия. Вот почему Выготский, вслед за Спинозой, Марксом и другими великими философами, считает понятие высшей формой мышления. «СвобоДа: аффект в понятии» [15. С. 256]. Понятия нейтрализуют страсти и генерируют активные аффекты, увеличивая способность человека к действованию. Бесчисленные примеры тому дают спорт и театр. Если аффекты - это коренное население психики, то понятия в ней -пришельцы из сферы общественного труда, колонизаторы и миссионеры культуры. Понятие образует «клеточку» разума и эмбрион свободы. «Понятие = ключ ко всему человеческому - истинно-человеческому: восприятию действительности, самосознанию личности... В понятии уже заключена вся свобода, как в клеточке весь организм... В понятии есть свобода» [15. С. 175]. Сверхчеловек - это человек свободный, homo liber. Он сам творит условия своей жизни и регулирует жизненные процессы, включая и психологические функции, - чему и должна научить его психологическая теория. «Конечно, эта психология будущего - эта теория и практика сверхчеловека - будет напоминать нашу современную психологию только по имени» (курсив наш. - А.М.) [11. С. 45]. В последние отпущенные ему годы Выготский примется за разработку «вершинной», или «акмеистической», психологии. Так именуется в его записных книжках теория «обратного движения от сознания к жизни». Он успел лишь набросать план книги на эту тему и наметить ряд ключевых моментов. В его печатных работах об этом не говорится; не встречается и выражение «вершинная психология». Свобода и господство «Нам нужны социальные изменения, сутью которых является переосмысление взаимоотношений и конструкций свободы, зависящих от до-минации - господства над людьми и природой», - декларирует Меган Бэнг [6. P. 115]. Да, но для начала стоило бы уточнить, о каких типах господства речь, дабы вместе с водой «доминации» не выплеснуть и ребенка культуры. Каждый из нас начинает свой день с акта доминации над собственной биологией, вставая на две ноги. Прямохождение - наш культурный вызов предкам-антропоидам, ломка природных задатков. Когда мы заводим машину или включаем компьютер, наше господство над внешней природой облекается в высокотехнологичные формы. Вряд ли Меган Бэнг готова отказаться от этих «конструкций свободы», равно как и от доминирующей позиции в каком-нибудь общественном учреждении. Должно быть, она ратует за отказ лишь от таких исторически отживших форм господства над людьми и природой, как расизм и колониализм. Этот гуманистический порыв можно и нужно приветствовать. Аналогичной конкретизации требует положение о «человеческой исключительности» (human exceptionalism), в коем Меган Бэнг усматривает «колониальную предпосылку» (colonial premise). Если она имеет в виду, что человека в природе не следует «представлять как государство в государстве» (Спиноза) и что культурное превосходство не оправдывает колониальное господство, - тут у нее нет разногласий с Выготским (или эти разногласия ей померещились). Выготский любил повторять афоризм natura non nisi parendo vincitur -природа покоряется лишь повиновением. Доминировать - повинуясь, действуя в согласии с законами природы, соразмеряя свои силы и устремления с природой в целом, или с «больше-чем-человеческим природным миром (more-than-human natural world)», как философически изъясняется Меган Бэнг. Такова механика культурного господства человека над природой вообще и над нашей человеческой природой в частности. «Господство над собой, принципы и средства этого господства не отличаются в основе от господства над окружающей природой. Человек есть часть природы, его поведение есть природный процесс, и овладение им строится, как и всякое овладение природой, по принципу Бэкона - “природа побеждается подчинением”», - пишет Выготский [2. С. 289-290]. Человек, конечно, - частица природы, но частица особая. Все прочие живые и неживые существа действуют по мерке собственного вида, «эгоистически», как выражался молодой Маркс. Один только человек действует универсально, как сама природа, становясь «мерой всех вещей», идеальным «зеркалом мира». Силы природы человек делает своими личными силами, вбирает в себя, подчиняет их своей воле одну за другой. Поэтому вся природа является «неорганическим телом человека». Кто-то укажет на «факторы, созданные человеком и вызывающие социоэкологические перемены» к худшему [6. P. 116], но разве сама прироДа не рушит созданные ею миры, не творит экологические катастрофы? Разрушая свою экосистему, человек разрушает этим себя, портит свое второе, «неорганическое» тело. А разве редко он уродует тело «первое»? (Здесь пионерами стали Коренные народы.) Но даже в этой самоубийственной деструкции человек - истинный сын природы. Культурное является «сверхприродным (= историческим)»5 в том и только том смысле, что человек не просто приспосабливается к условиям природной среды, но и активно изменяет их своим труДом. В этом и состоит «человеческая исключительность», т.е. коренное отличие homo sapiens от прочих видов животных. Преобразуя внешний мир, труд тем самым преобразует и своего субъекта, человека, - структуру его тела, образ жизни, общественные связи. В самодеятельном, культурном преобразовании собственной жизни и состоит человеческая свобода. СвобоДа - Дочь труДа и культуры. «Люди не рождаются свободными. В природе человека как естественного существа не заложена необходимость его перехода к свободе от рабства. Свобода не дана, а задана... Она не в начале, а в конце пути человека. Она недоступна ребенку. Но свобода не есть и нечто сверхприродное по отношению к человеку; не нечто, лежащее за пределами природы и, скорее, нарушающее ее законы, чем следующее им, не государство в государстве необходимости, а возможное изменение самой природы человека... по ее собственным законам - осознанная, свободная необходимость» [15. С. 435-436]. Заключение Со времен Ж.-Ж. Руссо сделались общим местом сетования, что культура часто бывает в разладе с натурой, а то и прямо враждебна натуре. Это - чистая правда. Человек давно уже живет в разладе не только с внешней природой, но и с самим собой. Урод и калека, созданный разделенным трудом, не способен достигнуть ни гармонии с внешним миром, ни внутренней гармонии. Анафемы и благие пожелания от Меган Бэнг и ее романтичных предшественников тут абсолютно бессильны. Гармония с природой возможна лишь при условии гармонизации отношений между людьми и реального превращения каждого индивида в гармоничную личность. Для этого человечеству предстоит пройти долгий исторический путь автоматизации общественного труда. Выготский понимал, что его гуманистический проект политехнического воспитания не дружит с текущей «житейской практикой», и работал для «завтрашнего дня». Его труды нужны сегодня как ориентир, но гораздо больше они пригодятся завтра - «сверхчеловечеству».
Выготский Л.С., Лурия А.Р. Этюды по истории поведения: Обезьяна. Примитив. Ребенок. М. : Педагогика-Пресс, 1993. 224 с.
Выготский Л.С. История развития высших психических функций // Выготский Л.С. Собрание сочинений : в 6 т. М. : Педагогика, 1983. Т. 3: Проблемы развития психики. 3б8 с.
Выготский Л.С. Мышление и речь // Выготский Л.С. Собрание сочинений : в 6 т. М. : Педагогика, 1982. Т. 2: Проблемы общей психологии. С. 5-361.
Выготский Л.С. Основные проблемы современной дефектологии // Выготский Л.С. Собрание сочинений : в 6 т. М. : Педагогика, 1983. Т. 5: Основы дефектологии. С. 6-33.
Cole M. Prologue // The essential Vygotsky / ed. by R.W. Rieber, D.K. Robinson. New York : Springer US, 2004. P. VII-XII.
Bang M. Towards an Ethic of Decolonial Trans-ontologies in Sociocultural Theories of Learning and Development // Power and Privilege in the Learning Sciences: Critical and Sociocultural Theories of Learning / ed. by I. Esmonde and A.N. Booker. New York : Routledge, 2017. P. 115-138.
Размыслов П. О «культурно-исторической теории психологии» Выготского и Лурии // Книга и пролетарская революция. 1934. № 4. С. 78-86.
Выготский Л.С. К вопросу о плане научно-исследовательской работы по педологии национальных меньшинств // Педология. 1929. № 3. С. 367-377.
Выготский Л.С. Социалистическая переделка человека // Человек. 2016. № 4. С. 122-131.
Выготский Л.С. Педагогическая психология. М. : Педагогика-Пресс, 1996. 536 с.
Выготский Л.С. Психологическая наука // Общественные науки в СССР (19171927 гг.). М. : Работник просвещения, 1928. С. 25-46.
Каутский К. Социальная революция. Женева : Лига русской революционной социал-демократии, 1903. 205 с.
Выготский Л.С. Письма к ученикам и соратникам // Вестник Московского университета. Сер. 14. Психология. 2004. № 3. С. 3-40.
Завершнева Е.Ю. Исследование рукописи Л.С. Выготского «Исторический смысл психологического кризиса» // Вопросы психологии. 2009. № 6. С. 119-138.
Выготский Л.С. Записные книжки. Избранное / под ред. Е. Завершневой и Р. Ван дер Веера. М. : Канон+, 2018. 608 с.
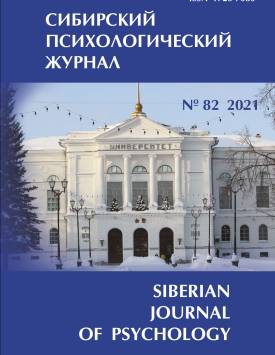

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью