К проблеме единства «аффекта» и «интеллекта» в психологии деятельности (в продолжение дискуссии)
В продолжение начатой А.Д. Майданским дискуссии и в контексте обсуждения двух главнейших для психологии вопросов - о природе психического и возможных психологических механизмах поступка - анализируется представленное в школе А.Н. Леонтьева решение проблемы соотношения «аффекта» (мотивационно-эмоциональных аспектов психики субъекта) и «интеллекта» (когнитивной ее составляющей). Показана связь этого решения с этическим учением Б. Спинозы и «вершинной психологией» Л.С. Выготского.
On the Problem of the Unity of "Affect" and "Intellect" in Activity Psychology (In the Continuation of the Discussio.pdf Введение Развитие научной мысли невозможно вне контекста дискуссий с представителями «оппонентного круга» ученого - неформальной коммуникативной структуры, внутри которой не только оттачиваются положения развиваемой тем или иным автором концепции, но и возникают новые повороты в его исследованиях, способные иногда привести к совершенно новым взглядам, вплоть до научного открытия [1]. Особенно интересной и продуктивной является, на наш взгляд, полемика ученого с представителями «внутреннего» оппонентного круга. Именно в этом контексте следует рассматривать предлагаемый вниманию читателя текст, являющийся откликом на статью А.Д. Майданского [2], в которой поднимаются существенные и значимые для сторонников культурно-деятельностной психологии вопросы, не имеющие до сих пор общепринятого в рамках данного направления решения. Хотя указанная статья была в основном посвящена анализу некоторых психологических идей Э.В. Ильенкова, в ней также затронуты сопряженные с ними положения общепсихологической теории деятельности школы А.Н. Леонтьева. Именно на них хотелось бы остановиться в настоящей работе, представив авторское видение упомянутых А.Д. Майданским идей данной школы, ответив по ходу дела и на его критику некоторых изложенных в нашей статье [3] положений. Обсуждению подвергнутся два тезиса статьи А.Д. Майданского, каждому из которых будет посвящен отдельный раздел представленной работы. Является ли психика как ориентировка исключительно когнитивным образованием? Совершенно справедливо утверждая, что «Ильенков принадлежал к “деятельностной” ветви культурно-исторической психологии», А.Д. Май-данский считает, что философ (подобно лидерам этого психологического направления А.Н. Леонтьеву и П.Я. Гальперину) видел в психике исключительно форму познавательной (или «поисковой», «исследовательской», «ориентировочной») деятельности; соответственно, в этой «когнитивной картине психики» аффектам отводилась «в лучшем случае периферийная роль» (см.: [2. С. 23]). В отличие от перечисленных авторов, пишет далее А.Д. Майданский, Л.С. Выготский, напротив, считал аффект «альфой и омегой» развития психики и, соответственно, краеугольным камнем научной психологии. Однако, на наш взгляд, анализ творческого наследия лидеров «деятельностной ветви» культурно-исторической психологии не дает основания считать высказанные о них суждения справедливыми. Ни А.Н. Леонтьев, ни П.Я. Гальперин вовсе не сводили психику, понимаемую как ориентировочная деятельность, к познавательным процессам как таковым. Рассматривая возникновение и развитие психики в филогенезе, А.Н. Леонтьев писал, что исходно в первичной чувственности «познавательные и аффективные моменты слиты» [4. C. 151-152]. Аналогичное он утверждал в своих лекциях по общей психологии 1970-х гг., самокритично подчеркнув, что это недостаточно было прописано в «Проблемах развития психики»: «Первоначальные формы чувствительности обладают не только недостаточной дифференцированностью, не только носят диффузный характер, но они, в отличие от того, что мы имеем в виду под ощущениями в обыденной жизни, не отделены от “чувствований” и “аффектов”» [5. C. 51]. Именно поэтому, говорил А.Н. Леонтьев своим слушателям, он больше любит слово «чувствительность», а не «ощущение»: в русском слове «чувствительность» счастливым образом соединились оба значения - чувствительность в смысле ощущения («органы чувств») и в смысле эмоционального переживания («чувство»). Однако и на более поздних этапах развития психики как ориентировочной деятельности сохраняется аналогичное единство, хотя психическая жизнь, включая эмоциональные состояния, становится более дифференцированной. В свою очередь, П.Я. Гальперин в лекциях на философском факультете МГУ в начале 1970-х гг. представил структуру ориентировочной деятельности субъекта в единстве ее мотивационной и операционной составляющих и подробно описал «компоненты» последней: 1) построение образа наличной ситуации; 2) выяснение значения отдельных компонентов ситуации «для актуальных интересов действующего субъекта»; 3) составление плана предстоящих действий; 4) дальнейшая ориентация действия в процессе его выполнения (см.: [6. C. 149]). Даже из этого простого перечисления (без раскрытия) компонентов операционной составляющей ориентировки видно, как тесно связаны когнитивные моменты с мотивационной системой7 и тем самым с тем, что называлось у Л.С. Выготского термином «аффект» (эмоциями в широком смысле слова), поскольку в деятельностной психологии эмоции, как известно, рассматривались как «внутренние сигналы». Внутренние в том смысле, подчеркивал А.Н. Леонтьев, что они отражают не предметную действительность напрямую, а «отношения между мотивами (потребностями) и успехом или возможностью успешной реализации отвечающей им деятельности субъекта» [4. C. 151], и, соответственно, «метят» на своем языке предметные ситуации и отдельные объекты [Там же. C. 152]. Впрочем, и А.Д. Майданский подчеркнул в своей статье, что животное и человек не замечают предметы «аффективно нейтральные» [2. C. 23]. Уже отсюда должен был бы следовать вывод, что «интеллект» и «аффект» в ориентировочной (поисковой, исследовательской и прочей) деятельности неотделимы друг от друга. По нашему мнению, определение психического через понятие смысла в еще большей степени подчеркивает единство познания субъектом предмета деятельности и его отношения к данному предмету. Значение категории «смысл» для психологической науки А.Н. Леонтьев сравнивал со значимостью понятия «стоимость» для политической экономии: «Говоря о деятельности, рассматривая ее развитие и отдельные ее формы, но не вводя понятие смысла, мы поступили бы так же, как экономист, рассматривающий процесс обмена, его развитие и его формы, но ничего не желающий слышать о стоимости» [4. C. 235]. Ученый определял смысл как субъективнообъективную категорию, поскольку смысл «не есть для нас нечто взятое абстрактно от реального субъекта, но это не есть для нас и категория чисто субъективная, т.е. категория, относящаяся к субъекту, рассматриваемому в абстракции, в его замкнутости и отдаленности от окружающего мира» [8. C. 97]. Иначе говоря, смысл «всегда есть смысл чего-то и для кого-то, смысл определенных воздействий, фактов, явлений объективной действительности для конкретного, живущего в этой действительности субъекта» [Там же]. Соответственно, психику во всех ее ипостасях следует рассматривать с позиций теории деятельности как процессы и явления смысловой природы. Это явствует хотя бы из одного определения психической деятельности самим А.Н. Леонтьевым: «Понятие смысла означает отношение, возникающее вместе с возникновением той формы жизни, которая необходимо связана с псих отражением действительности, т.е. вместе с психикой. Это и есть специфическое для этой формы жизни отношение. Осмысленная, т.е. подчиняющаяся этому отношению деятельность и есть деятельность психическая» [4. C. 232]. В филогенезе исходной формой смысла является, в терминологии А.Н. Леонтьева, «биологический смысл» (мир выступает для животных как пространство биологических смыслов, которые имеют как свое филогенетическое, так и онтогенетическое развитие). У человека появляются «разумные» (осознаваемые, сознательные) смыслы, а затем и собственно личностные смыслы1. Одной из форм существования смысла того или иного объекта для субъекта является эмоция. Возвращаясь к обсуждаемой проблеме соотношения «интеллекта» и «аффекта» в творчестве А.Н. Леонтьева, следует отметить, что противники (а зачастую и соратники) упрекали его как раз в слишком большом внимании именно к «аффекту» (мотивационной обусловленности ориентировочной деятельности), а не к «интеллекту» (т.е. главным образом к «операционально-техническому» составу этой деятельности). Одним из оппонентов А.Н. Леонтьева в этом вопросе был П.Я. Гальперин8 9. Еще больше критики в адрес А.Н. Леонтьева было со стороны представителей его «внешнего» оппонентного круга, что стало особенно очевидным во время известной дискуссии 1948 г. по книге А.Н. Леонтьева «Очерк развития психики» (крайне интересные - и не только для историков психологии - стенограммы этой дискуссии, к сожалению, до сих пор не опубликованы). Так, например, в своем выступлении, обсуждая решение автором «Очерка» проблемы соотношения значений и смыслов в структуре сознания, Н.А. Менчинская упрекнула А.Н. Леонтьева в том, что в его творчестве «роль мотивов в психике и поведении человека непомерно раздувается» [16. Л. 134] и что А.Н. Леонтьев отрицает «воспитывающую роль знаний», т.е., в терминологии автора «Очерка», значений [Там же. Л. 136]. Однако участвовавшие в той же дискуссии М.Н. Скаткин, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и некоторые другие выступающие не увидели в исследованиях А.Н. Леонтьева никакого отрыва значений от смыслов, операционально-технической стороны деятельности от ее мотивационной составляющей. Более того, упомянутые докладчики подчеркивали, что особенности операциональнотехнической стороны деятельности напрямую обусловлены мотивационноэмоциональной ее стороной. В практике школьного обучения, подчеркивали они, это означает необходимость организации такой деятельности учащихся, в которой усваиваемые ими знания приобретут для них действительный смысл. Некоторое время спустя многочисленные исследования школы О.К. Тихомирова весьма убедительно опровергли возможность изучения операциональной стороны психической деятельности в отрыве от мотивационной ее стороны (равно как и наоборот) и поставили под сомнение дихотомию «предметного» и «смыслового» как двух разных форм регуляции деятель-ности10. Неслучайно поэтому психологическую теорию мышления, разработанную и разрабатываемую до сих пор школой О.К. Тихомирова на основе развития фундаментальных положений концепции А.Н. Леонтьева [17], стали называть «смысловой теорией мышления». Сделаем общий вывод из проведенного нами в данном разделе анализа: если понимать, в соответствии с духом деятельностного подхода школы А.Н. Леонтьева, психику как ориентировочную функцию (функциональный орган) структуры всей деятельности, то никакого противопоставления «мотивационно-эмоциональной» и «операционально-технической» составляющих психического даже и не может быть, они всегда существуют в единстве и поэтому просто невозможно изучать одну в отделенности от другой. Завершим данный раздел цитатой из «Методологических тетрадей» А.Н. Леонтьева, которая в несколько ином контексте подчеркивает данное единство: «Мотивы - чувство, цели - воля, средства - ум, - так мы возвратились к классической триаде, сняв ее как троякую способность души и раскрыв ее в ее действительном содержании» [8. C. 220]. Был ли А.Н. Леонтьев в конфронтации со спинозистом Л.С. Выготским? Еще одним дискуссионным моментом статьи А.Д. Майданского является его утверждение, что «Леонтьев осудил своего учителя Выготского за “поворот к Спинозе”» и даже «вступил в конфронтацию со спинозистом Выготским» [2. C. 23]. При этом, по мнению автора статьи, у Л.С. Выготского был поворот к «вершинной психологии», выдвинувшей на первый план спинозовское понятие свободы воли как разумного овладения аффектами, тогда как А.Н. Леонтьев и его соратники (Э.В. Ильенков, П.Я. Гальперин, А.И. Мещеряков) прошли мимо «вершинной» спинозовской проблематики - «разум против рабства страстей» [Там же. C. 27]. Но так ли это? Прежде всего стоит сказать о том, что никакого «осуждения» Л.С. Выготского за поворот к Спинозе мы в высказываниях А.Н. Леонтьева, на которые ссылается А.Д. Майданский, не усматриваем. Откроем текст «устной биографии» А.Н. Леонтьева: ее автор, действительно, говорит о том, что возникла конфронтация двух «линий»: «моя линия: возвращение к исходным тезисам и разработка их в новом направлении» [18. C. 375], а именно к исследованию «дела», практического интеллекта, «практики» в целом; линия Л.С. Выготского: «жизнь аффектов; отсюда поворот к Спинозе» [Там же. C. 376]. Где же здесь «осуждение»? Это просто констатация факта, что для обсуждения тематики «аффекта» Л.С. Выготскому понадобилось обратиться к системе идей величайшего мыслителя XVII в. (см. также упоминание Леонтьевым связи идей Л.С. Выготского и Спинозы: [8. C. 37]). Другое дело, что в своих работах А.Н. Леонтьев, соглашаясь с высказываниями Л.С. Выготского о том, что за сознанием лежит жизнь, не может принять понимание Л.С. Выготским сути этой «жизни» как «жизни аффектов» как таковых1. «Аффект - не движущая сила, - утверждает А.Н. Леонтьев в “Материалах о сознании” (рукописи 1940-1941 гг.). - Развитие аффектов действительно состоит в овладении аффектами (в значении осознания)» [8. C. 40]. Но, приняв во внимание, что «аффект» (эмоция) отражает отношение между мотивами и возможностью успеха (или достигнутым успехом) отвечающей этим мотивам деятельности субъекта и что, соответственно, «эмоции не подчиняют себе деятельность, а являются ее результатом и “механизмом” ее движения» [4. C. 150], А.Н. Леонтьев считает, что «овладение аффектами» возможно только при осознании мотивов, стоящих за эмоциями, и дальнейшей работе с ними11 12. Подчеркнем, что процесс осознания мотивов и их соотношения друг с другом возникает, согласно А.Н. Леонтьеву, лишь на уровне личности и постоянно воспроизводится в процессе ее развития; для самых маленьких детей данной задачи не существует вовсе (см.: [Там же. C. 156]). Осознание мотивов может привести к перестройке мотивационной сферы человека, а возникшие противоречия в этой сфере могут разрешиться в форме поступка, совершение которого приводит, в свою очередь, к изменению самосознания личности [8, 22-24]. Именно здесь психология, пишет А.Н. Леонтьев, «смыкается... с проблемами человеческой этики. Она становится наукой о жизни человека» [8. C. 210]. Таким образом, А.Н. Леонтьев вовсе не «прошел мимо» «вершинной» проблематики Б. Спинозы, который, как справедливо указывает А.Д. Май-данский, назвал главный свой труд «Этикой» (а не «Метафизикой»). Правда, в силу разных причин, в том числе социокультурного свойства, эта проблематика представлена лишь в небольшом круге печатных работ Леонтьева. Тем не менее в них излагаются важнейшие для «вершинной психологии» рассуждения о личности как особой реальности, о ее структуре, о природе воли и психологии поступка и другие - идеи, которые впоследствии так или иначе были развиты учениками и последователями А.Н. Леонтьева (А.Г. Асмоловым, Б.С. Братусем, Ф.Е. Василюком, Ю.Б. Гиппенрей-тер, Д.А. Леонтьевым, В.А. Петровским, В.В. Столиным и др.; подробнее см.: [18. C. 200-209]). Покажем теперь, насколько это позволяют объем и жанр нашей статьи, какой вклад внесла школа А.Н. Леонтьева в «вершинную психологию» и как может быть с позиций указанной школы истолкована на конкретнопсихологическом уровне формула Б. Спинозы - Л.С. Выготского о «свободе воли» как разумном овладении аффектами. Речь пойдет прежде всего о психологии поступка как единицы анализа жизни личности в самом узком и точном значении слова «личность». Поступок определялся А.Н. Леонтьевым как действие, входящее «в двоякую структуру» (в разные системы отношений) и поэтому полимотивиро-ванное (см.: [Там же. C. 202]). Разводя в позднейшей работе (лекции «Воля») поступок и волевое действие [22], А.Н. Леонтьев называл поступком не всякое полимотивированное действие, а такое, различные мотивы которого имеют одинаковые «аффективные знаки» (положительные или отрицательные), в отличие от волевого действия, которое предполагает борьбу между двумя мотивами, имеющими «разные аффективные знаки». Первый вариант мотивационного выбора в ситуации поступка (между альтернативными «хочу сделать то» и «хочу сделать это», причем выбор одного из вариантов означает отказ от другого) можно проиллюстрировать анекдотом, приводимым А.Н. Леонтьевым: «Перед Спенсером стоит дилемма: либо ехать в Австралию, либо жениться и остаться в Англии13. Спенсер принимает решение на основе изобретенной им “моральной арифметики”: обстоятельства отъезда, равно как и обстоятельства женитьбы и пребывания в Англии, он баллирует по каждому пункту, расценивая их каким-то количеством очков, затем сосчитывает очки. Выходит, что больше пунктов собирает решение ехать в Австралию. Он остается в Англии и женится» [22. C. 5]1. Второй вариант мотивационного выбора (не хочу делать ни того, ни другого, но выбор между двумя действиями все равно должен быть осуществлен - обстоятельства жизни этого требуют) хорошо представляет поговорка «из двух зол выбирай меньшее» (при этом выбор «одного из зол» также означает отказ от другого - и наоборот). Ситуацию волевого действия можно усмотреть в другом приводимом А.Н. Леонтьевым анекдоте: на вопрос офицера, почему денщик кряхтит и стонет, тот отвечает, что хочет пить, но «идти не хочется». Тогда офицер приказывает денщику принести стакан воды. Денщик тут же срывается с места и приносит требуемое. Офицер заставляет его выпить воды, денщик выпивает и успокаивается (см.: [Там же. C. 14]). Если волевое действие обычно связано с внешним социальным принуждением, хотя, возможно, уже и интериоризированным14 15, то поступок -это свободное действие самоопределения личности16 (в идеале - жизнь-подвиг), и в таком случае вряд ли уместно называть это действие (термин «деяние» здесь больше подходит) в строгом смысле слова «волевым». Поскольку в основании поступка лежит конфликт мотивов, возникает вопрос о том, что же позволяет личности сделать в конечном счете выбор одного из них. Указания на возможный психологический механизм совершения поступка содержатся в ряде поздних работ А.Н. Леонтьева, но наибольшую разработку в школе А.Н. Леонтьева эта проблема получила в исследованиях В.А. Иванниковым волевых действий. Несмотря на то, что выше мы развели понятия «волевое действие» и «поступок», механизмы мотивационного выбора в том и другом случае имеют, на наш взгляд, некие сходные общие черты. В.А. Иванниковым было эмпирически доказано, что при наличии двух (или более) мотивов выбор одного из них осуществляется благодаря включению этого мотива в более широкую систему ценностномотивационных образований и тем самым изменению его смысла и / или приобретению им нового смысла и, соответственно, дополнительной побудительной силы (см., напр.: [27. C. 85]). Как любил говорить А.Н. Леонтьев, подобный выбор совершается не с помощью «арифметики» мотивов: именно субъект принимает то или иное свободное и ответственное решение на свой страх и риск17. Однако нельзя говорить при этом, что данное решение вообще ничем не детерминировано. Оно обусловлено осознанным «взвешиванием» значимых для субъекта мотивов, если можно так выразиться, «на смысловых весах» и в конечном счете выбором человеком того мотива, который приобрел в ходе этого процесса для него больший «смысловой вес». А подлинный смысл, как подчеркивал, в свою очередь, В. Франкл, всегда выходит за пределы собственного Я. В этой связи рискнем предложить свой вариант объяснения сделанного человеком (называемым А.Н. Леонтьевым в рассказанной им истории Гербертом Спенсером) выбора вопреки более выгодному для себя при подсчете «очков» варианту. Думается, что решение остаться в Англии было обусловлено тем, что мужчина подумал не о себе, т.е. не о своих возможных выгодах, а о любимой невесте, которая станет несчастной, если он уедет в Австралию. В школе А.Н. Леонтьева поступок вообще рассматривается всегда как со-бытие, т.е. как «двухсубъектное» действие, которое строится в расчете на другого, предполагает другого и смысл которого определяется мерой участия человека в жизни других людей и всего человечества в целом (см., напр.: [28; 29]). По мнению А.Н. Леонтьева, самым «вершинным» (в смысле Л.С. Выготского) стремлением человека как раз и является его стремление стать «человеком человечества» [4. C. 168]. А оно, в свою очередь, обусловлено, как утверждает Д.А. Леонтьев, не всегда осознаваемой подспудной потребностью человека в бессмертии (см.: [30. C. 157]). Об аналогичном стремлении писали еще раньше А.В. Петровский и В.А. Петровский, называя это потребностью «быть личностью» [31]. Важно подчеркнуть, что данная потребность не является врожденной: она формируется в онтогенезе в процессе становления личности. При этом, совершая свой уникальный и неповторимый, свободный и ответственный поступок, человек все равно остается социальным существом, даже если (в период «второго рождения личности») происходит его «смысловая эмансипация - выработка личностью собственных смысловых оснований жизнедеятельности, не обязательно совпадающих со смысловыми основаниями, усвоенными от семьи и других референтных социальных групп» [32. C. 80]. Об этом когда-то говорил и Л.С. Выготский: «Индивидуальное личностное - не contra, а высшая форма социальности» [33. C. 54]. Однако теперь «референтной группой» может стать иной социум, нежели, возможно, ближнее окружение индивида; это, скорее, некое идеальное сообщество референтных для человека субъектов, в пределе - человечество. Приобщившись к жизни человечества, индивид приобретает реальную возможность выйти за пределы своего конечного (ограниченного пространственно-временными рамками) существования, поскольку начинает жить в созданных им произведениях материальной и духовной культуры (см.: [30. C. 157]) и в других личностях (см.: [34. C. 61]). Поэтому А.Н. Леонтьев всегда подчеркивал, что мера развития единичного человека определяется тем, насколько он действительно становится «человеком Человечества» [35. C. 384]. Именно приобщенность индивидуальной человеческой жизни к жизни других людей и человечества в целом и придает этой жизни неповторимый смысл и дает человеку действительную свободу в плане выбора своего собственного пути. К тому же именно человечество, а не отдельный индивид и не отдельная социальная группа, согласно воззрениям диалектиков в философии и психологии, является подлинным субъектом научного познания. И поскольку, согласно учению школы А.Н. Леонтьева, в деятельности любого человека мотивационно-эмоциональное («аффект») и когнитивное («интеллект») нераздельны, они, как правило, соразмерны друг другу: высшие формы эмоциональной регуляции, преодолевая низшие, корреспондируют с высшими формами познания мира как целого [36, 37]. Соответственно, критерием истины в конечном счете является не «полезность» ее для отдельного индивида или группы, а общечеловеческая практика в ее историческом развитии. Не об этом ли писал Спиноза, когда говорил о «познавательной любви к богу» [38. C. 610] как, по сути, о единстве «интеллекта» и «аффекта»? Мудрец стремится к соразмерности аффектов в соответствии с разумным познанием мира, и, наоборот, познание мира (субстанции, бога, природы) в его необходимости приводит к ни с чем не сравнимому аффекту любви к богу (субстанции, природе): «высшее стремление Души и высшая ее ДоброДетель состоят в познании вещей по третьему роДу познания», и «из этого третьего роДа познания возникает высшее Душевное уДовлетворение, какое только может быть» [Там же. С. 606-607]. Подобное познание, согласно Спинозе, «если и не совершенно уничтожает аффекты, составляющие пассивные состояния , то по крайней мере достигает того, что они составляют наименьшую часть души» [Там же. C. 604]. Таков, по Спинозе, путь к подлинной свободе человека, а именно и прежде всего к свободе от «низших» аффектов, к которым человек может попасть в своеобразное рабство. Так что овладение аффектами, если использовать эту терминологию, вовсе не означает избавления от аффектов вообще - неслучайно так возвышающий Спинозу Л.С. Выготский любил повторять: «Никакое большое дело не делается без большого чувства». Заключение Настоящий текст, поводом к написанию которого послужила статья А.Д. Майданского, имел своей главной целью актуализировать обсуждение дискуссионных моментов культурно-деятельностной психологии, особенно в отношении положений общепсихологической теории деятельности А.Н. Леонтьева, которые - в отличие от творческого наследия Л.С. Выготского - крайне редко становятся предметом обсуждения не только в зарубежной, но и в современной отечественной литературе. Между тем прояснение основных принципов проведенных и проводимых до сих пор с позиций теории деятельности школы А.Н. Леонтьева исследований помогает в ином свете понять и психологические идеи крупнейшего диалектика XX в. Э.В. Ильенкова, о котором в основном шла речь в статье А.Д. Майданского. Мы затронули в нашей работе только проблему, обозначенную в ее названии, а именно проблему соотношения «аффекта» (мотивационноэмоциональной стороны психики как функции деятельности субъекта) и «интеллекта» (когнитивной ее составляющей), и пытались показать, как именно решается данная проблема в школе А.Н. Леонтьева в контексте обсуждения двух главнейших для психологии вопросов: о природе психического и о возможных механизмах поступка как деяния личности в самом узком смысле слова «личность». Было показано, что понимание в школе А.Н. Леонтьева психики как «ориентировочной деятельности» (точнее -ориентировочно-регулирующей функции, или функционального органа, деятельности) не означает ее сведения лишь к познавательным процессам, поскольку любой процесс ориентировки всегда аффективно нагружен, т.е. определяется мотивами деятельности субъекта. Утверждалось также, что подобное единство «аффекта» и «интеллекта» в психической деятельности лучше всего передается через понятие «смысл». А поскольку аффект (эмоция в широком смысле слова) является субъективной формой существования мотивации, постольку проблема «овладения аффектами» преобразуется в проблему осознания (осмысления) собственных мотивов деятельности и возможной перестройки иерархии мотивов, что лучше всего представлено в ситуации поступка. Поступок как ответственное и свободное действие (деяние) личности совершается путем выбора субъектом одного из значимых для него мотивов, который приобретает новый смысл (и тем самым дополнительную побудительную силу) благодаря включению его в более «высокую» систему ценностей, в пределе - в общечеловеческие ценности. Тем самым формула Б. Спинозы - Л.С. Выготского о свободе воли как о разумном овладении аффектами уточняется и наполняется конкретнопсихологическим содержанием, что является частью вклада школы А.Н. Леонтьева в «вершинную» психологию, на создание которой было нацелено все творчество Л.С. Выготского. На наш взгляд, из всего вышесказанного можно сделать общий вывод о том, что психология деятельности школы А.Н. Леонтьева развивала и развивает именно «линию спинозизма» в психологии, и «оживление» спинозизма в марксистской психологии, необходимость которого так подчеркивал в свое время Л.С. Выготский, видится нам не только в использовании в школе А.Н. Леонтьева принципов деятельности, монизма и детерминизма, о чем писал А.Д. Майданский (см.: [2. C. 23]), излагая представленную в нашей статье [3] позицию, но и в антикартезианском решении в рамках этой школы тех психологических проблем, которые прямо смыкаются с этическим учением Спинозы об аффектах и человеческой свободе.
Ключевые слова
деятельность,
психика,
мотив,
аффект,
ориентировочная деятельность,
смысл,
поступок,
личность,
деятельностный подход в психологииАвторы
| Соколова Елена Евгеньевна | Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова; Белгородский государственный национальный исследовательский университет | доктор психологических наук, доцент, доцент кафедры общей психологии факультета психологии; научный сотрудник | ees-msu@mail.ru |
Всего: 1
Ссылки
Ярошевский М.Г. Оппонентный круг и научное открытие // Вопросы философии. 1983. № 10. С. 49-61.
Майданский А.Д. Онтогенез человеческой психики и языка в работах Э.В. Ильен кова // Сибирский психологический журнал. 2020. № 76. C. 20-31. DOI: 10.17223/17267080/76/2
Соколова Е.Е. Как А.Н. Леонтьев оживил спинозизм в марксистской психологии, или О неявном философском основании теории деятельности // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2019. Т. 16, № 4. С. 654-673. DOI: 10.17323/18138918-2019-4-654-673
Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М. : Смысл, 2005. 352 с.
Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии / под ред. Д.А. Леонтьева, Е.Е. Соколо вой. М. : Смысл, 2000. 511 с.
Гальперин П.Я. Лекции по психологии. М. : КДУ ; Высшая школа, 2002. 400 с.
Вилюнас В.К. Психология развития мотивации. СПб. : Речь, 2006. 458 с.
Леонтьев А.Н. Философия психологии : из научного наследия / под ред. А.А. Леон тьева, Д.А. Леонтьева. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1994. 228 с.
Соколова Е.Е. К проблеме непротиворечивого определения предмета психологии в школе А.Н. Леонтьева // Вестник Московского университета. Сер. 14. Психология. 2003. № 2. С. 32-49.
Леонтьев Д.А. Новые горизонты проблемы смысла в психологии // Проблема смысла в науках о человеке (к 100-летию В. Франкла) : материалы междунар. конф. (Москва, 19-21 мая 2005 г.) / под ред. Д.А. Леонтьева. М. : Смысл, 2005. С. 36-49.
Патяева Е.Ю. Порождение действия: культурно-деятельностный подход к мотивации человека. М. : Смысл, 2018. 815 с.
Соколова Е.Е. К определению понятия «психическая деятельность»: теоретический анализ дискуссий между А.Н. Леонтьевым и П.Я. Гальпериным // Вестник Московского университета. Сер. 14. Психология. 1998. № 4. С. 3-13.
Нечаев Н.Н. А.Н. Леонтьев и П.Я. Гальперин: диалог во времени // Вопросы психологии. 2003. № 2. С. 50-69.
Зинченко В.П. Петр Яковлевич Гальперин: от действия с заданными свойствами к свободной мысли // Стиль мышления: проблема исторического единства научного знания : к 80-летию Владимира Петровича Зинченко / под общ. ред. Т.Г. Щедриной. М. : РОССПЭН, 2011. С. 387-412.
Научный архив: Дискуссия о проблемах деятельности // Деятельностный подход в психологии: проблемы и перспективы : сб. науч. тр. / под ред. В.В. Давыдова, Д.А. Леонтьева. М. : Изд-во АПН СССР, 1990. С. 134-169.
Научный архив РАО. Ф. 82. Оп. 1. Ед. хр. 103 [Протоколы №№ 3-5 совместных заседаний Ученого совета Института психологии и кафедры психологии МГУ им. М.В. Ломоносова по обсуждению книги А.Н. Леонтьева «Очерк развития психики»]. 1948. 238 л.
Тихомиров О.К., Бабаева Ю.Д., Березанская Н.Б., Васильев И.А., Войскунский А.Е. Развитие деятельностного подхода в психологии мышления // Традиции и перспективы деятельностного подхода в психологии (школа А.Н. Леонтьева) / под ред. А.Е. Войскунского, А.Н. Ждан, О.К. Тихомирова. М. : Смысл, 1999. С. 191-234.
Леонтьев А.А., Леонтьев Д.А., Соколова Е.Е. Алексей Николаевич Леонтьев. Деятельность, сознание, личность. М. : Смысл, 2005. 431 с.
Леонтьев А.Н., Лурия А.Р. Психологические воззрения Л.С. Выготского // Выготский Л.С. Избранные психологические исследования : Мышление и речь. Проблемы психологического развития ребенка / под ред. А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия. М. : Изд-во АПН РСФСР, 1956. С. 4-36.
Выготский Л.С. Записные книжки. Избранное / под общ. ред. Е. Завершневой, Р. ван дер Веера. М. : Изд-во «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2017. 608 с.
Интервью с Алексеем Николаевичем Леонтьевым. Беседовал - Михаил Григорьевич Ярошевский (из неопубликованного) // Культурно-историческая психология. 2013. № 4. С. 2-25.
Леонтьев А.Н. Воля // Вестник Московского университета. Сер. 14. Психология. 1993. № 2. С. 3-14.
Столин В.В. Самосознание личности. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1983. 252 с.
Соколова Е.Е. Идеи А.Н. Леонтьева и его школы о поступке как единице анализа личности в их значении для исторической психологии // Традиции и перспективы деятельностного подхода в психологии (школа А.Н. Леонтьева) / под ред. А.Е. Вой-скунского, А.Н. Ждан, О.К. Тихомирова. М. : Смысл, 1999. С. 80-117.
Гиппенрейтер Ю.Б. Деятельностный подход к воле: альтернативы // Психологическая теория деятельности: вчера, сегодня, завтра / под ред. А.А. Леонтьева. М. : Смысл, 2006. С. 80-91.
Леонтьев Д.А. Очерк психологии личности. 2-е изд. М. : Смысл, 1997. 64 с.
Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1991. 140 с.
Эльконин Б.Д. О природе человеческого действия // Вестник Московского университета. Сер. 14. Психология. 1989. № 4. С. 25-39.
Эльконин Б.Д. Введение в психологию развития (в традиции культурноисторической теории Л.С. Выготского). М. : Тривола, 1994. 168 с.
Леонтьев Д.А. Самореализация и сущностные силы человека // Психология с человеческим лицом: гуманистическая перспектива в постсоветской психологии / под ред. Д.А. Леонтьева, В.Г. Щур. М. : Смысл, 1997. С. 156-176.
Петровский А.В., Петровский В.А. Индивид и его потребность «быть личностью» // Вопросы философии. 1982. № 3. С. 44-53.
Леонтьев Д.А. Становление саморегуляции как основа психологического развития: эволюционный аспект // Субъект и личность в психологии саморегуляции : сб. науч. тр. / под ред. В.И. Моросановой. М.-Ставрополь : Изд-во ПИ РАО ; СевКавГТУ, 2007. С. 68-84.
Выготский Л.С. Конкретная психология человека // Вестник Московского университета. Сер. 14. Психология. 1986. № 1. С. 52-65.
Психология развивающейся личности / под ред. А.В. Петровского. М. : Педагогика, 1987. 240 с.
Леонтьев А.Н. Начало личности - поступок // Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения : в 2 т. М. : Педагогика, 1983. Т. 1. С. 381-385.
Леонтьев Д.А. Личность в непредсказуемом мире // Методология и история психологии. 2010. Т. 5, вып. 3. С. 120-140.
Леонтьев Д.А. Личность как преодоление индивидуальности: контуры неклассической психологии личности // Психологическая теория деятельности: вчера, сегодня, завтра / под ред. А.А. Леонтьева. М. : Смысл, 2006. С. 134-147.
Спиноза Б. Этика // Спиноза Б. Избранные произведения : в 2 т. М. : Госполитиздат, 1957. Т. 1. C. 359-618.
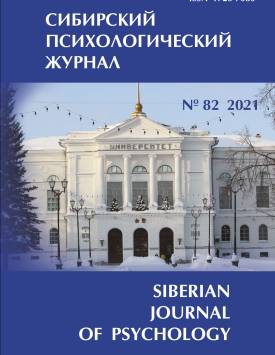

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью