Представлены результаты исследования конкретных вариантов интерферентных проявлений в сфере славяно-тюркского языкового взаимодействия: отклонения от норм выражения рода и числа в русской речи тюркско-русских билингвов, соотношение которых в грамматических системах вступающих во взаимодействие языков принципиально различно. Славянские и тюркские языки относятся к типологически разным языкам (флективные синтетические vs агглютинативные), различаются набором грамматических категорий, типами межкатегориального взаимодействия, различной конфигурацией частных грамматических значений и способами их формального маркирования в составе одноименных категорий. Языки славянской и тюркской групп находятся в отношениях интенсивного контактирования, следствием чего является множественность вариантов интерферентных явлений в речи двуязычных говорящих. Была проанализирована речь 22 респондентов в возрасте от 23 лет до 81 года, имеющих образование от начального до высшего (около 140 тыс. словоупотреблений). В результате проведённого исследования было показано влияние различий грамматических структур взаимодействующих языков на интенсивность появления ошибок в русскоязычной речи: 1) ошибки в использовании грамматического рода преобладают во всех синтаксических позициях, что обусловлено отсутствием в материнских тюркских языках категории рода; 2) различия в устройстве грамматических категорий числа взаимодействующих языков проявились в преобладании ошибок в использовании форм числа вещественных и собирательных существительных; 3) вариантность частных грамматический значений мужского, женского и среднего рода в русском языке нашла отражение в том, что немаркированный член оппозиций мужской род оказался доминирующим во всех синтаксических позициях, за исключением выражения отношений координации связочного глагола в составных сказуемых; 4) интерферентные явления вступают во взаимодействие с активными тенденциями в развитии русского языка, а также закономерностями развёртывания устной речи.
Grammatical gender and number in the speech of Turkic-Russian bilinguals: interference or intra-linguistic tendencies?.pdf Исследования в области межъязыковой интерференции ведутся не одно десятилетие, начиная с основополагающих работ У. Вайнрайха и Э. Хаугена [5; 21], в которых были заложены основы современной интерпретации процессов и результата взаимодействия языков, который выражается в отклонении от нормы и системы второго языка под влиянием родного. В настоящее время накоплены значительные данные о проявлениях интерферентного взаимодействия на всех уровнях языковой системы при анализе разных типов вступающих во взаимодействие языковых пар. Исследователи отмечают, что отклонение от нормы и системы второго языка может возникать вследствие как лакунарности определённых языковых категорий в системах взаимодействующих языков, так и вариативности их частной категориальной представленности. В последнем случае это могут быть различия в системах: 1) грамматических и лексико-грамматических категорий; 2) внутрикатегориальных оппозиций одноимённых категорий; 3) межкатегориального взаимодействия, соотносимого с первым фактором; 4) формального маркирования категорий и внутрикатегориальных оппозиций [2; 3; 5-8; 11; 21]. В связи с этим представляется весьма актуальным исследование конкретных вариантов интерферентных проявлений в сфере славянотюркского языкового взаимодействия. Славянские и тюркские языки относятся к типологически разным языкам (флективные синтетические vs агглютинативные), различаются набором грамматических категорий, как следствие - различными типами межкатегориального взаимодействия; при наличии одноименных категорий - различной конфигурацией частных грамматических значений и способов их формального маркирования. Языки славянской и тюркской групп Лингвистика и язык 169 относятся к числу наиболее распространённых на территории Российской Федерации, что обусловливает интенсивность языкового контактирования носителей данных языков и множественность вариантов интерферентных явлений в речи двуязычных говорящих. В данной статье мы обращаемся к анализу интерферентных явлений, обусловленных влиянием родных тюркских языков (шорского, хакасского, сибирского татарского) в русской речи жителей Южной Сибири. Конкретный предмет анализа - отклонения от норм выражения рода и числа в русской речи тюркско-русских билингвов, соотношение которых в грамматических системах вступающих во взаимодействие языков принципиально различно, что, как будет показано далее, находит отражение как в количественной диспропорции проявлений интерференции, так и её направленности. Вместе с тем уже Э. Хауген подчёркивал сложность дифференциации собственно интерферентных влияний, сдвигов в системе и норме второго языка, появляющихся под влиянием первого, и отклонений от нормы второго языка, истоки которых могут находиться в нём самом [21]. Интерферентные явления и внутриязыковые процессы могут вступать в интеракции [13], что также является важным аспектом нашего анализа. Наличие грамматического рода с трёхчленной оппозицией частных грамматических значений и сложной системой морфолого-синтаксического маркирования является одним из наиболее значительных отличий грамматики русского языка, представителя восточнославянской ветви славянских языков, от тюркской, в которой грамматический род отсутствует [9; 10; 20]. При этом в тюркских языках гендерные различия в сфере обозначения живых существ могут маркироваться лексически [10: 6], и носители тюркских языков как родных могут опираться на семантические стратегии маркирования гендера как семантической категории. Однако при освоении русского языка у тюркско-русских билингвов должны формироваться особые навыки родовой категоризации с опорой на целостные морфосемантические комплексы. Вследствие этого можем предположить сосуществование навыков маркирования гендерных различий с опорой как на собственно семантические, так и формальные основания, лингвокогнитивные истоки которых различны. В то же время возможность раздельного применения этих стратегий поддерживается и своеобразием категории рода в грамматической системе русского языка. Как известно, род является классифицирующей у существительных и словоизменительной - у прилагательных русского языка. При этом именно адъективные флексии являются системными маркерами рода существительного, не имеющего специ- 2021. № 66 170 фичной морфемы для обозначения родовых оппозиций [17]. Существительное и согласующиеся с ним адъективные формы составляют целостный комплекс выражения родовых грамматических оппозиций в русском языке [18]. Непоследовательность семантических мотиваций грамматической категоризации и внутрисловного формального маркирования отмечается в качестве основных причин возникающих трудностей при освоении категории рода русского языка представителями тюркоязычных народов [20: 18]. Отметим также, что причиной неустойчивости согласовательной нормы при усвоении русского языка может быть функциональное неравноправие частных грамматических значений мужского, женского и среднего рода. Мужской род характеризуется как немаркированная форма, что может обусловить его экспансию в функции замещения других форм. Однако к такому функционированию приводит и семантическая немотивированность форм среднего рода, которая может претендовать на заместительную позицию вследствие своей семантической нейтральности. Анализируемая в работе категория числа наличествует в грамматических системах тюркских и русском языке. Исследователи, работающие в сфере контрастивной грамматики русского и тюркских языков, отмечают принципиальное совпадение категориальной оппозиции числа в соотносимых языках: противопоставление смыслов единичности и раздельной множественности. Однако при этом, как подчёркивал Н.К. Дмитриев, «соотношение единственного и множественного чисел в тюркских языках не то, что в русском и других европейских. Форма таш не есть единственное число с точки зрения русского и других языков. Это недифференцированная форма для обозначения коллективного понятия “камней вообще”. Она может функционировать и по линии единственного, и по линии множественного числа. В каждом отдельном случае требуются особые синтаксические условия» [9: 68]. Отметив это, авторы «Сопоставительной грамматики русского и татарского языков» подчёркивают: «В связи с этим нулевой форме существительного татарского языка в русском языке может соответствовать и форма единственного, и форма множественного числа, например: Базарда ит саталар (На рынке продают мясо.) Мин ж,илѳк жыям (Я собираю ягоды.)» [20: 22]. Несовпадение систем формального маркирования оппозиций единственного и множественного числа обусловлено типологическими различиями агглютинативных тюркских языков и флективного синтетического русского: в тюркских языках число маркируется аффиксом множественного числа, единственное число не имеет аффикса. В русском маркируются обе формы, при этом флексия совмещает Лингвистика и язык 171 со значением числа значения падежа, в единственном числе - и рода. Различия в характере маркирования форм числа в русском и тюркских языках определяются и слабой противопоставленностью именных частей речи в тюркских языках: «В хакасском языке существительные в функции определения не согласуются с определяемым словом ни в числе, ни в падеже и всегда имеют форму основного падежа ед. ч., независимо от формы определяемого слова» [10: 93-94]. Значимым является и различие взаимодействия категории числа с другими грамматическими и лексико-грамматическими категориями: к таковым в первую очередь нужно отнести интеракции категории числа с категорией определённости/неопределённости в тюркских языках при отсутствии таковой в русском языке. И, напротив, для русского языка характерно наличие функциональных отношений категории числа с лексико-грамматическими категориями абстрактности, вещественности, собирательности, проявляющихся в ущербности парадигмы по числу. Следует учитывать и различия в характере лексико-семантических ограничений на реализацию грамматических значений: в русском языке существуют лексически ограниченные группы pLuraLia и singuLaria tantum при отсутствии соответствий в тюркских языках: «Аффикс множественного числа хакасского языка по сравнению с формантами множественности, собирательности русского языка более индифферентен по отношению к семантике слова, т. е. не зависит от лексического значения основы» [10: 93-94]. Система формального маркирования грамматического числа в русском языке характеризуется значительно меньшей регулярностью, нежели в тюркских языках в целом, и значительная часть регламентации формального маркирования располагается в сфере нормы, а не системы. Полагаем, что значимым при характеристике интерферентных сдвигов является и определение типа билингвизма, характера языкового опыта говорящих на втором языке, времени и способа усвоения языка, активности использования двух языков на протяжении жизни и во время фиксации речи. Результаты анализа, представленные в данной статье, собирались на основе глубокого анкетирования двуязычных респондентов по двум анкетам - социолингвистической и анкете языкового опыта. Итоги анкетирования, приведённые в публикациях [4; 15], позволяют отнести родные языки билингвов к функциональному типу, который определяется как язык семейного наследия, или херитажный (эритажный) язык (о термине см., напр., [1]). Для этого типа языкового существования билингва характерно вытеснение родного языка русским языком, доминирующим во всех 2021. № 66 172 сферах коммуникации, в сферу домашнего, реже - дружеского общения, в сферу маркирования этнокультурной идентичности. Такое функциональное распределение языков определяет относительно небольшое количество случаев интерференции, которые, однако, встречаются на всех уровнях языковой системы - от фонетического до дискурсивного [14]. Исследование проводилось на основе материалов бимодального корпуса устной речи тюркско-русских билингвов RuTuBiC, объём звуковых файлов которого в настоящее время составляет более 500 ч звучания [19; 22]. В статье представлены результаты анализа морфологически размеченного фрагмента корпуса. Проанализирована речь 22 респондентов от 23 лет до 81 года, уровень образования которых - от начального до высшего. Объём проанализированного материала - 30 ч 18 мин звучания, около 140 тыс. словоупотреблений. В сфере нашего внимания находятся: 1) синтаксические позиции форм, являющихся средством формального маркирования категории числа и рода; 2) частные грамматические значения числа и рода, при использовании которых проявляется неустойчивость нормы; 3) тенденции в развитии системы и нормы выражения категории числа и рода в родном и втором языке билингва. Мы проследим влияние на появление отклонения от речевого стандарта (ОРС) тенденций в развитии грамматических норм в первом и втором языках и их интеракций в сфере числа и рода. Межсентенциальные отношения: согласование/координация В межсентенциальных позициях формы согласования адъективных форм и координации глагольных форм числа и рода выступают средством выражения кореференции в тексте, маркируют отнесённость выражаемых смыслов субъекта/объекта последующего предложения к субъекту/объекту предыдущего. В нашем материале отмечено значительное преобладание ОРС при использовании форм рода по сравнению с использованием форм числа в позиции местоименного и (или) глагольного маркирования кореференции текста (50 vs 10). В совокупности ОРС в сфере грамматического рода доминирует использование форм мужского рода (31) в позициях женского (30) и среднего (1): У нас... в шорском языке, у нас тридцать девять букв, в отличие... в русском языке - тридцать три, а у нас - тридцать девять, вообще, сорок один был (была), вот «к» по-шорски: «кэ» есть и есть «кэээ- спирант», есть «у» и есть... (И.А., н. в., 2)1; Ну, я слабо учился эта... в институте, поэтому методику, как эта... преподавания русского языка и литературы, ну, эта... я его (её) слабо усвоил (С.Г., в., 2). Лингвистика и язык 173 На втором месте по числу ОРС находится использование форм среднего рода (13) на месте женского (10) и мужского (3): Ввернее, скорее с восемесят четвёртого года начала появляться какая-то периодическая печать, самиздат назывался он (она). В восемесят восьмом оно уже было узаконено (она) (И.А., н. в., 2); Почему? У нас ставили арту то есть напиток, который летом вместо кваса, как, жажду утоляло (утолял), очень вкусный напиток, а сейчас же почти никто не ставит (Р.С., в., 3). Формы женского рода в данной позиции характеризуются наименьшей экспансией - 6 случаев употребления: Мулла умер, да, который вот на Высокогорной жил? Этот, как её (его), Фазых? (В.Н., н. с.). Функциональное доминирование форм мужского рода согласуется с его характеристикой как немаркированного члена грамматической оппозиции. Полагаем, что именно немаркированность частной грамматической категории в системе «принимающего» русского языка делает её «хорошим кандидатом» на замещение других грамматических позиций. В конкуренции частных грамматических значений числа в этой позиции побеждает единственное число на месте множественного (9 vs 1): Я первый раз помидоры попробовала: думаю - какая гадость, и думаю, как его (их) едят (Р.С., в., 3); дети уже, мои внуки уже спокойно, достойно растут, и их никто, им не даёт понять, что он (они) какой-то не такой. Всё (В.С., сс., 3); А племянники, есть племянницы у вас? - Респондент: Племянники есть. Ну, по-шорски говорим мы с ней (с ними) (Н.Н., с., 2); Хочу, чтобы дети и внуки говорили на этом языке. Очень хочу, но не-не-не... Но не делает (не делают). Да. (Н.Н., с., 2). Отклонение от нормы в этой сфере, на наш взгляд, имеет другую природу, нежели в сфере рода. Оно может быть обусловлено переключением смыслов при построении текста, проявляющегося в сужении области референтной отнесенности: от обозначения совокупности - к одному из элементов данной совокупности. В последующем предложении глобально сохраняется единство референции с объектом, названном в предыдущем, но формально маркируется его сужение: помидоры как вид плодов > конкретный представитель вида; группа лиц, объединённая по признаку родства > конкретный представитель группы. Отметим, что обратное соотношение представлено единичным примером, который также может быть объяснён в логике семантической стратегии переключения «единичное» > «совокупность»: Вот эти бочки, вот такие вот, писят килограммовые, круглые такие, икры чёрной, икры красной, селёдка, которая голова вот так вот это, к хвосту, такие крупные (такая крупная) с икрой вообще. (В.С., с. с., 3). В приведённом контексте слово селёдка обозначает вид приготов- 2021. № 66 174 ленной особым образом сельди, контекстно актуализируются смыслы множественности, формируя конфликт формы единственного числа и контекстного значения множественности. Внутрисентенциальные отношения: координация Анализ ОРС в сфере грамматического рода в отношениях координации выявил абсолютное доминирование форм среднего рода прошедшего времени связочного глагола составного именного сказуемого (16 из 18 случаев ОРС): Да, колхоз «Чепай» там было (был) (О.Е., н., 3). Формы женского и мужского рода как ОРС единичны: А варили, у них такая была приспособление (такое было) у эти, чугунки большие (Г.П., с., 3); Звонит мне и говорит, да это, ну, этот, время уже наверное был (было) десять, одиннадцатый (Г.С., в., 3). При этом материал позволяет выделить в качестве дополнительных факторов возможное влияние маркирования рода нечастотными флексиями (1), а также сложные случаи согласования - несклоняемые существительные (2), аббревиатуры (3) и пр., которые в русском языке интерпретируются скорее как факт нормативного предписания, но не системной детерминации: (1) Боль невыносимый (невыносимая), болит уже (Н.Н., н., 3); Вот мулла, например, тырганский-то занята (занят), там тоже это самый, пойти узнать, что в такой время (такое время), в такой день прийти и всё (Г.С., в., 3); (2) ...в это ета, в паровоз... паровозный депо (паровозное), можно было бы и Юргу а без меня никуда, они не хотят. Как, как, а та... не отрывать их (Н.Н., н., 3); (3) Да, да, да. А потом вот закончил и поехал в таштагольский КПТУ (таштагольское) (П.Н., с. с., 3). При использовании форм числа во внутрисентенциальных отношениях координации доминирует использование формы множественного числа в позиции нормативного единственного. Примеры ОРС, с одной стороны, объединяются общей направленностью - функциональным доминированием смысловых отношений над формальными нормами согласования. В данном случае мы наблюдаем «снятие ограничений» на реализацию форм числа в классах собирательных (1) и вещественных существительных (2). С другой стороны, в случаях, когда наблюдается своеобразный конфликт лексического значения, включающего смыслы множественности элементов совокупности, и грамматического оформления единственным числом: (1) Нет. Которые постарше, которые уже лет под тридцать, под тридцать, все молодёжь выехали (выехала), семейные, не семейные. (В.С., с. с., 3); Лингвистика и язык 175 (2) Я говорю, всё равно, нет-нет, но всё равно, я говорю, пыль же летят (летит). (Н.Н., н., 3). Полагаем, что данное рассогласование грамматических и лексических смыслов создаёт основу для возможности выбора стратегии согласования формального (нормативного в русской грамматической системе) и согласования «по смыслу», который является не нормативным для данных типов единиц, но весьма актуальным для русской грамматической системы в целом. Единичные ОРС могут быть непосредственно соотнесены с особенностями использования форм в родном языке. Так, авторы «Сопоставительной грамматика русского и татарского языков» отмечают, что правило симметричного маркирования форм числа имеет исключение в немногочисленной группе имён существительных с аффиксом множественного числа (например, яшьлѳр «молодёжь»), которые употребляются только во множественном числе [20: 25]. Отметим, что ОРС при маркировании форм числа возникают преимущественно в постпозиции предиката. В следующих примерах препозиция единицы, находящейся в отношениях координации, создаёт дополнительные условия для нарушения норм формального согласования. Контексты демонстрируют возможность подбора существительного после того, как определяющее слово уже произнесено. Предикат употреблён в обобщённо-личном значении, а затем находится конкретизирующее слово (неопределённые лица поняли >начальство поняли): ...в Киргизии уже поняли, здесь-то меня знали уже, в Киргизии уже поняли, начальство (поняло), какученика-то ко мне поставят (В.С., с. с., 3). В приводимых далее контекстах уже рассмотренные семантические основания для ОРС как выбора стратегии согласования по смыслу осложняются использованием метонимических переносных значений (область > это руководство области, ХГУ > руководство ХГУ): И пригласили наша область (пригласила) шорцев, вот (В.С., сс., 3); И закончил техникум. И в этот же год ХГУ открыли (открыл) факультет... экономический факультет (А.Ф., в., 3). Проведённые исследования в области падежного управления в текстах рассматриваемого варианта тюркско-русского билингвизма выявили, что в зоне активного сдвига в системе падежного управления находится использование форм именительного падежа в локативной конструкции при предлоге [14: 206]. Если в первом тексте мы в качестве предпочтительной рассматриваем версию ОРС в сфере числа, связанной с выражением отношений координации по смыслу, то во втором случае оба варианта рассматриваются как равно возможные: ОРС может быть результатом отклонения от норм формального со- 2021. № 66 176 гласования/координации по числу: И закончил техникум. И в этот же год ХГУ открыли (в ХГУ открыли) факультет... экономический факультет (А.Ф., в., 3), где глагол используется в неопределённоличном значении в структуре односоставного предложения. Семантическая стратегия выбора форм предиката наблюдается и в отношении координации со счётными местоимениями. Русская нормативная система предписывает исключительно возможность согласования счётных местоимённых наречий столько, сколько, много, немного, мало, немало со сказуемым в форме единственного числа, однако уже в «Справочнике по правописанию и литературной правке» Д.Э. Розенталя отмечается распространение использования форм множественного числа [16]. В речи наших респондентов также находит отражение данная тенденция: Кстати, там очень много русских были (было), и они все шорский знали, я удивлялась; Конечно, даже взрослые пытаются и своих детей тащат, и детей много довольно-таки учатся (учится) (З.И., с., 2). Некоторые сбои согласования по числу также определяются спонтанным характером коммуникации, перестраиванием стратегий смыслового развития речи, которое может выражаться и сменой согласуемых элементов. Нарушение норм координации по числу может быть объяснено переключением стратегии характеристики ситуации от конкретного участника к группе лиц, определённой или неопределённой. Сказуемое, которое должно иметь форму единственного числа, принимает форму множественного, маркируя отнесённость к референту следующего фрагмента текста: Вот даже вот недавно моя эээ, которая с кем-то я работала, взяли (взяла) в газету напечатали (напечатала) (В.С., с., 3); Ну, если честно говоря, то нам... на нашем народном ансамбле «Чылтыс» лежит (лежат) эм... практически все организационные мероприятия нашего района. (В.С., с. с., 3); В Абакан, ой., в Хакассию ездил, мне нравится (нравятся) ихние равнины. (А.Ф., в., 3). ОРС в сфере согласования по роду в позиции внутрисентенциального употребления представлено наибольшим количеством случаев - 60. В согласовательной позиции проявилась та же закономерность, что и в функциональной позиции маркирования кореференции -ярко выраженная экспансия форм мужского рода (38), замещающая позиции женского (29) и среднего (9) рода: В Казани вот я смотрю, там в каждом шагу мусульманский мечеть (мусульманская) (Г.С., в., 3); Да, да, да. А потом вот закончил и поехал в таштагольский КПТУ (таштагольское) (П.Н., с. с., 3). Замещающие позиции форм женского рода представлены значительно меньшим количеством случаев (13), при этом доминирует использование форм женского рода на месте Лингвистика и язык 177 мужского (8). Экспансия форм среднего рода в позициях других грамматических форм количественно значительно уступает первым двум. В ряде случаев нарушение норм согласования в этой позиции также может быть объяснено ситуацией речевого сбоя, поиском продолжающего элемента высказывания. Приведем типичный пример: А, это... как это... щас нету такого (такой), централизованного... (централизованной), эта... поддержки, например, как раньше при Советском Союзе, например, языковых э... ка... языковых кафедры и так далее (Г.Н., в., 2). Немногочисленные случаи нарушения норм в контактной препозиции согласовательной формы числа могут быть проинтерпретированы как следствие проявления общих закономерностей развёртывания спонтанной речи: Летом на улице, зимой только дома. Но всё равно печка и плитка - совсем раз-разный... продукты (разные). Вкус совсем разный (Н.Н., с., 2), что, однако, наблюдается не во всех примерах. Полагаем, что появление такого рода нарушений может быть поддержано и влиянием родного языка: «Форма единственного числа... выражает либо единичность, либо их единство, совокупность: иб юрта, yrpenni ученик, хыные любовь и т. д.» [17: 37-50], т. к. во всех зафиксированных случаях ОРС сбой происходит в случаях использования абстрактных, вещественных и собирательных существительных: Землянику собирала, а там кам-каменистое место, в горка она не стала залазить, а увидела крупную ягоды (крупные) и потянула... туда, а потом чё-то больно, думала, уколола, кровь бежит (Н.Н., с., 2). Вот так, вот такой слухи (такие слухи) ходят. Ка... где это проверить, как это проверить - никто не смог (В.С., с. с., 3); Который слова (некоторые) я уловлю (Н.Н., с., 2). В данных случаях реализуется та же семантическая стратегия, но с актуализацией идеи единства, совокупности. Таким образом, в системе отклонений от речевого стандарта в сфере грамматического рода и числа, зафиксированных в речи хе-ритажных тюркско-русских билингвов, были обнаружены тенденции, согласующиеся с теоретическими идеями основоположников теории языкового контактирования и интерференции, а также эмпирическими результатами, полученными при изучении других языковых пар и типов билингвизма. Во-первых, подтверждаются положения о влиянии грамматических структур взаимодействующих языков на интенсивность появления ошибок в сфере грамматики при использовании второго языка: ошибки в использовании грамматического рода преобладают во всех синтаксических позициях. Во-вторых, значимыми оказывается тип различий в устройстве грамматических категорий взаимодейст- 2021. № 66 178 вующих языков, что проявилось в характере ОРС в системе грамматического числа. В-третьих, положение о функциональных различиях частных грамматический значений мужского, женского и среднего рода в русском языке нашло отражение в системе ОРС: немаркированный член оппозиций мужской род функционально оказался доминирующим во всех синтаксических позициях, за исключением выражения отношений координации связочного глагола в составных сказуемых. В-четвёртых, подтвердилось положение, высказанное ещё Э. Хаугеном, о переплётенности интерферентных явлений и тенденции развития языковой системы «принимающего» языка: появление ОРС, истоки которых можно увидеть в интерферентном влиянии родного языка, поддерживается действием внутрисистемных активных тенденций в русском языке - разрушении системы последовательного согласования как по роду, так и числу под влиянием лексического значения в случаях конфликтности лексической и грамматической семантики. В данных позициях интерферентные явления вступают во взаимодействие с другими речевыми факторами. Так, мы полагаем, что преобладание ОРС в препозиции согласовательных форм обусловлено возможностью проявлений речевого сбоя в устной спонтанной коммуникации. Полученные нами наблюдения согласуются также с результатами психолингвистических экспериментальных исследований когнитивной обработки форм грамматического рода существительных русского языка тюркско-русскими билингвами, которые свидетельствуют в пользу обработки грамматической категории как семантической [12]. ПРИМЕЧАНИЕ 1. Фрагменты транскриптов интервью и бесед не редактируются, сохраняют особенности спонтанной разговорной речи наших собеседников. В соответствии с соглашением об анонимности мы не приводим в публикациях персональные данные респондентов, фрагменты диалогов сопровождаются обозначением инициалов их имён и отчеств, возрастной группы (1 - до 40 лет, 2 - от 40 до 65, 3 - от 65 и старше), уровня образования (в. - высшее, н. в. - неполное высшее, с. - среднее, с. с. - среднее специальноеп, н. с. - неполное среднее, н. - начальное). В диалогах реплики информантов даются курсивом, реплики также анономизированных интервьюеров -основным шрифтом, разграничиваются тире).
Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Проблемы лексикографического описания лингводидактической терминологии // Вопросы лексикографии. 2018. № 14. С. 5-23. DOI: 10.17223/22274200/14/1
Арбузова И.И. Языковая интерференция и её учёт в преподавании темы «Русские пространственные предлоги» в иностранной аудитории // Вестник Тюменского государственного университета. 2013. № 1. С. 143-150.
Ерановска-Грончевска Э. Русско-польская лексико-семантическая интерференция (на примере письменной и устной речи поляков и петербуржцев польского происхождения в Санкт-Петербурге): автореф. дис. … канд. филол. наук. СПб., 2004. 24 с.
Артёменко Е.Д., Буб А.С. Динамика социолингвистической ситуации хакасско-русского языкового взаимодействия на территории Южной Сибири // Русин. 2019. № 56. C. 294-311. DOI: 10.17223/18572685/56/18
Вайнрайх У. Одноязычие и многоязычие // Новое в лингвистике. Вып. 6: Языковые контакты. М.: Прогресс, 1972. C. 25-60.
Гнатюк О.А. Грамматическая интерферения при русско-испанском двуязычии // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика. 2014. № 3. С. 64-69.
Градская Т.В., Пакос Ю. Проявление языковой интерференции (на материале русского и польского языков). URL: https://lunn.ru/sites/default/files/media/upr_NIR/izd/tpaird/2016/21_gradskaya_t.v._pakos_yu.p.pdf (дата обращения: 16.09.2021).
Данилина Е.К. Ошибки, вызванные грамматической интерференцией (на примере письменных работ студентов) // Известия вузов. Серия: Гуманитарные науки. 2013. № 4 (4). С. 299-301.
Дмитриев Н.К. Грамматика башкирского языка. М.; Л., 1948. 169 с.
Карпов В.Г. Сопоставительная фонетика и грамматика хакасского и русского языков. Абакан, 2011. Ч. I. 220 с.
Нагель О.В., Темникова И.Г. Интерферентное влияние татарского языка в речевых практиках татарско-русских билингвов // Русин. 2019. № 56. C. 213-225. DOI: 10.17223/18572685/56/13
Некрасова Е.Д., Резанова З.И., Палий В.Е. Влияние родного языка (L1) на когнитивную обработку грамматической категории рода существительных русского языка (L2) русско-тюркскими билингвами // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2019. № 57. C. 103-123. DOI: 10.17223/19986645/57/6
Резанова З.И., Дыбо А.В. Отклонения от речевого стандарта в региональном варианте устной русской речи: внутриязыковое и межъязыковое взаимодействие // Русин. 2020. № 62. C. 144-158. DOI: 10.17223/18572685/62
Резанова З.И., Дыбо А.В. Языковое взаимодействие в речевых практиках шорско-русских билингвов Южной Сибири // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2: Гуманитар. науки. 2019. Т. 21, № 2 (187). С. 195.
Резанова З.И., Темникова И.Г., Некрасова Е.Д. Динамика социолингвистических процессов в Южной Сибири в зеркале билингвизма (русско-шорское и русско-татарское языковое взаимодействие) // Вестник Томского государственного университета. 2018. № 436. С. 56-68. DOI: 10.17223/15617793/436/7
Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке: Для работников печати. 5-е изд., испр. М.: Книга, 1989. 320 с.
Русская грамматика / Гл. ред. Н.Ю. Шведова. М.: Наука, 1980. Т. 1. 789 с.
Русская корпусная грамматика.URL: http://rusgram.ru/ (дата обращения: 16.09.2021).
Свидетельство о государственной регистрации базы данных № RU 2019620803 «Бимодальный корпус устной речи жителей южно-сибирского региона» / Артёменко Е.Д., Буб А., Васильева А.В., Душейко А.С., Машанло Т.Е., Нагель О.В., Резанова З.И., Сафиуллина Е.Ш., Степаненко А.А., Темникова И.Г.
Сопоставительная грамматика русского и татарского языков. Морфология. Казань, 2017. 180 с.
Хауген Э. Языковой контакт // Новое в лингвистике. Вып. 6: Языковые контакты. М.: Прогресс. 1972. С. 61-80.
Rezanova Z.I., Temnikova I.G., Artemenko E.D., Stepanenko A.A., Datsyuk V.V., Dybo A.V. The Bimodal corpus of Russian-turkic bilinguals’ speech (RuTuBiC) // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. По материалам ежегодной международной конференции «Диалог» (2019). Вып. 18. Дополнительный том. С. 200-210. URL: http://www.dialog-21.ru/media/4870/_-dialog2019scopusvolplus.pdf (дата обращения: 16.09.2021).
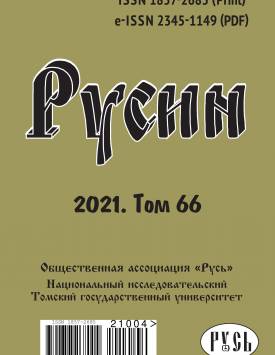

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью