Прасамодийские и пратунгусо-маньчжурские названия жилищ: опыт семантической реконструкции
Автор, основываясь на разработанной ею методике семантической реконструкции, восстанавливает названия жилищ разных типов для выделенных этапов существования народов самодийской и тунгусо-маньчжурской языковых семей и осуществляет привязку этих названий к фактам, засвидетельствованным этнографически и археологически. Выбор семей обусловлен тем, что народы тунгусо-маньчжурской и самодийской языковых семей с давнего времени проживают на смежных территориях, в сходных эколого-географических условиях, и ведут сходный образ жизни. Кроме того, максимальная временная глубина, на которую может проникнуть лингвистическая реконструкция, то есть время первого распада праязыка семьи на разные языки, для этих семей практически совпадает; соответственно, можно предположить сопоставимость полученных реконструкцией результатов. В процессе реконструкции была выявлена исконная и заимствованная лексика в обеих семьях; возможно, эти факты коррелируют с заимствованным характером соответствующих типов жилищ.
Proto-Samoyedic and Proto-Manchu-Tungusic dwelling names: an attempt at semantic reconstruction.pdf Введение Тунгусо-маньчжурские и самодийские народы с давних пор проживают на смежных территориях и ведут сходный образ жизни. Языковые семьи, к которым относятся их языки, распадались приблизительно в одно и то же время. Соответственно, интересно было бы выяснить, какие названия жилищ можно реконструировать для различных узлов генеалогических деревьев этих семей и к каким типам жилищ, засвидетельствованным археологически и этнографически, эти названия могли бы относиться. Этимологическое исследование названий жилищ в каждой группе языков, во-первых, может пролить свет на следующий вопрос: насколько хронологически глубоко каждое из названий может быть достоверно реконструировано (и, соответственно, какое конкретное сообщество носителей родственных языков могло его использовать). Во-вторых, при рассмотрении названий жилищ, этимологически связанных внутри определенной группы языков, оказывается, что иногда, согласно этнографическим данным, в разных языках эти названия относятся к жилищам разного облика; можно попытаться выяснить на основе лингвистических данных, какой тип жилища первоначально назывался тем или иным именем. В первой части статьи мы рассматриваем, какие слова самодийских и тунгусоманьчжурских языков, относящиеся к жилищу, реконструируются для протосамодийского, прото-тунгусо-маньчжурского уровней и для дочерних языковых групп. Во второй части исследуется, какие виды жилищ какими словами называются в разных языках этих семей. В третьей части мы пытаемся уточнить, какие жилища можно обозначить с помощью слов, реконструированных для разных групп языков. 1. Материал: этимологии названий жилищ и их деталей 1.1. Прасамодийский и его подгруппы1. Время распада прасамодий-ского языка-предка по глоттохронологической датировке - вторая пол. I тыс. до н.э. (программа STARLING дает 340 г. до н.э. для распада на северную и южную группы, распад самих этих групп - рубеж эры2). Предположительная локализация носителей этого праязыка применительно к I тыс. до н.э. - восточная часть Обь-Иртышья (Хелимский 2000: 17). Для прасамодийского восстанавливаются следующие названия жилищ и их частей: 1.1.1. Название основного жилища, вероятно чума, *mät (Janhunen 1977: 90-91); отметим, что там, где чум - не основная форма жилья, это все равно основное название жилища, ср. в селькупском 'деревня, усадьба, юрта'. || Слово, возможно, возводится к ПУ *mättV ʻдомʼ (Redei 1986-1989: 269; Норманская 2018: 472), соответствуя марийскому, суффикс ассоциативной множественности mət (в конструкциях типа «Пётр и его семья»), см. Bereczki (2013: 141); ср. к развитию значения огуз. -gIl суффикс ассоциативной множественности = чув. kil ‘дом' (Дыбо 2008: 221); такое соотношение значений говорит скорее о праур-альском значении «house = home». Кроме этого, восстанавливается довольно обширная терминология, относящаяся к конструкции и установке чума: 1.1.2. *je̮ səj- ‘ставить чум' || Прасамодийский тюркизм, см.: Терентьев (1999: 188); Дыбо (2007: 140); Левитская, Севортян (1989: 150-152)). 1.1.3. *e̮ tV ‘стоянка, стойбище' || (Alatalo 2004: 19; (?) Donner 1944: 23). 1.1.4. *ko- ʻшест в чумеʼ || (Норманская и др. 2015: 64). 1.1.5. (?) *jejV ʻнюкʼ, *jej-tV ʻшест для придавливания нюковʼ. 1.1.6. *ńurV ʻчехол (на нюк)ʼ || < ПУ *ńarV ʻшкура или кожа без во-лосʼ, (Redei 1986-1989: 313; Норманская и др. 2015: 64). 1.1.7. *tet- ʻберестяная покрышка чумаʼ || (Janhunen 1977: 158); видимо, < ПСТнг. *tiksa ʻтжʼ; этимология < ПУ *tis ʻберестяная покрышка чумаʼ (Redei 1986-1989: 525) неверна: в ФУ только коми-зырянское киска (Безносикова и др. 2012), тиса незафиксировано, тиска - только в русских пермских говорах; вопреки Аникину (2000: 547), следует предполагать в коми тунгусизм, возможно, через русский. 1.1.8. *si̮ ŋV ʻчистая часть чума напротив двериʼ || (Janhunen 1977: 141); ср. ПУ *šeŋä ‘gut, gerade' (Redei 1986-1989: 499). 1.1.9. *sarwV ‘'верхушка чума, дымовое отверстие > окно' (Helimski 1997: 335) || < ПУ *śarma ‘дымовое отверстие в чуме' (Redei 1986-1989: 344; Дыбо, Норманская 2016: 46). 1.1.10. (1) Имеется группа довольно проблематичных этимологий, которые в принципе позволяют реконструировать на основании ПССам. *kårV-T- ‘дом, стационарная постройка' и сельк. *korä ‘хижина, зимнее жилище охотников' (Alatalo 2004: 328) ПС *kårV- ‘стационарная постройка', возможно, с иранскими связями (ср. ПИр. *gr̥ da-‘дом, строение' (Расторгуева, Эдельман 2007: 292-293), хотя, возможно, ССам. сводится к заимствованию из хантыйского kŏrt, которое в свою очередь заимствовано из коми gort, заимствованного из ПИр *gr̥ da-). (2) Известное селькупское название землянки *kara(lj)-mo (этнографическое определение - ‘прямоугольная с несущими стенами призматическая полуземлянка' (Тучкова и др. 2012: 122)) с этой основой как будто не связывается по фонетическим причинам, и его этимология неясна (возможна отыменная производность). Несколько прасамодийских слов предположительно означают детали стационарной постройки: 1.1.11. *kämV-tå ‘крыша' (Castrén 1855; Alatalo 2004: 66) || < ПУ *komta ʻпокров, крышкаʼ (Redei 1986-1989: 671). 1.1.12. ? *mə̑ kå ʻбалка крышиʼ (считается, что переносное значение из *mə̑ kå ‘спина, хребет' (Janhunen 1977: 853) < ПУ *muka ʻспинаʼ (Sammallahti 1988), однако ср. в селькупском различие между maki ‘Stock, Wandbalken' (Alatalo 2004: 812) и moqǝ, moqol ‘Rücken' (Alatalo 2004: 121), что, вероятно, предполагает реконструкцию отдельного прасамодийского строительного термина *m(a)kV ‘балка'). 1.1.13. *ö (? *öǝ̑ ) ʻдверьʼ || (Janhunen 1977: 29) < ПУ *owe ʻдверьʼ (Redei 1986-1989: 344). 1.1.14. *seŋV ʻугол чума, комнаты, женская половинаʼ || (Janhunen 1977: 141; Дыбо, Норманская 2016: 46) < ? ПУ *śiŋ e ʻчто-то согнутоеʼ > ‘угол' (Redei 1986-1989: 480). 1.1.15. (?) *wåTVwə̑ (~ *wåt3Vpə̑ ) ʻместо для ночлега, постельʼ || (Janhunen 1977: 173), < ПУ *wopV ʻместо для ночлега (в снегу)ʼ (Redei 1986-1989: 584, Дыбо, Норманская 2016: 46). Уральская этимология сомнительна фонетически; возможно, мансийское vāpi ‘норка в снегу, где прячутся тетерева', не когнат, а самодийское заимствование. 1.1.16. *påjŋå ʻпостель, шкура, на которой спятʼ || (Janhunen 1977: 115). Заимствовано из ПТМ *piangkV ʻнижняя покрышка чума/полкаʼ (Цинциус 1977: 36, 321). 1.1.17. *seTsän ‘амбар, лабаз' (Janhunen 1977: 139). 1.1.18. *pårV ‘лабаз' || (Janhunen 1977: 116; Helimski 1997, 2007b); < ПУ *pora ‘плот' (Redei 1986-1989: 344); или, возможно, тунгусизм: ср. ПСТнг. *harā(n) ‘место для чума, пол' < ПТнг *parā(n), см. ниже. Для прасеверосамодийского узла генеалогического древа восстанавливается еще несколько слов, касающихся устройства чума: 1.1.19. *ǝ̑ jǝ̑ sV ʻвстать чумомʼ (Helimski 2007b) || < (?) ПУ *aśe-‘stellen, setzen, legen; ein Zelt errichten' (Redei 1986-1989: 18). 1.1.20. ПС *uj ʻшестʼ > ПССам. ʻшест чумаʼ (Janhunen 1977: 29) || < ПУ *wole (*wōle) ʻшестʼ (Redei 1986-1989: 579). 1.1.21. *kimkV ʻглавный шест чумаʼ (Аникин, Хелимский 2007: 137) || Из ПССам. заимствовано эвенкийское чūмка, кūмка ‘срединная жердь в чуме между входом и костром' (Цинциус 1977: 394; Василевич 1969: 109). 1.1.22. *pelVj ʻнежилая часть чумаʼ (Helimski 2007b) || Ср. ПУ *palV ‘левый' (Redei 1986-1989: 351). 1.1.23. *låTtV ‘доски для сидения у очага в центре пола чума' (Helimski 2007a) || ? < ПУ *latta ʻboard, lidʼ (Redei 1986-1989: 238). Финно-угорский когнат, впрочем, сомнителен: ПФУ скорее *lawtta и может быть балтизмом: литовское plaũtas, латышское plàuts ‘Wandbrett, Regal' (Itkonen et al. 1995: 55-56). 1.1.24. *ləŋkəri ‛порог' (Аникин, Хелимский 2007: 135) || Из СТнг.: эвенкийское лэңирū ‛колода' (Цинциус 1975: 517); к ПТМ глаголу *leŋe- ‘цепляться, застревать'. 1.1.25. *təkV ʻзащитная завалинка перед домомʼ || Возможно, также тунгусизм, ср. ПТМ *tōkan ‘бревно, перекинутое через реку, мост' (Цинциус 1977: 155-156). 1.2. Пра-тунгусо-маньчжурский и его подгруппы. Мы отчасти основываемся здесь на работе О. А. Константиновой (1971), дополняя материал из вновь изданных источников и более строго проводя реконструкцию и стратификацию слов. Первый распад пра-тунгусо-маньчжурского, разделение на тунгусскую и маньчжурскую ветви (вместе с чжурчженьским) датируется глоттохронологически примерно III в. до н.э. Распад пратунгусского на северную и южную ветви произошел около III-VI вв. н.э.4 Специфические формы жилищ, приводимые в качестве значений праязыковых слов, в целом однообразны среди тунгусо-маньчжурских народов (см. иллюстрации ниже). Фонетическая реконструкция проставлена согласно модифицированной версии (Дыбо 1992), основанной на (Цинциус 1949; Benzing 1956; Doerfer 1978; Doerfer 2004; Starostin et al. 2003 (частично)). Приведем полный список тунгусо-маньчжурских этимологий названий жилища и его частей. Пра-тунгусо-маньчжурские: 1.2.1. *ǯï̄ b ‘жилище, очаг' (ПТнг ‘жилище', ма. ‘очаг'): СТнг эвк. ǯū; ǯūw-čā- ‘заниматься хозяйством', сол. ǯūɣ, эвн. ǯūò, нег. ǯō ‘двускатный длинный шалаш, крытый тисками, зимой сверху кладется еще кора кедра' (Левин, Потапов 1956: 835), demin. ǯокча Н, В ‘юрта (охотничья летняя)', ‘конический чум' (Левин, Потапов 1956: 835), ороч. ǯu(g), уд. ǯugdi ‘шалаш (двускатный, с двумя выходами и с двумя очагами)'; ЮТнг ульч. ǯū(ɣ), орок. dū-qụ, нан. ǯō; ма. ǯū-n ‘очаг'. || (Цинциус 1975: 266-267, 275; Doerfer 2004: 276 (*ǰū (+-g), без ма.)). Вопреки О.А. Константиновой (1971: 227), восстанавливающей для ПТМ значение слова ‘разборное каркасное переносное жилище', т.е. ‘чум', материал указывает на значение ‘house, home' и в ПТнг, и в ПТМ - ср. дериват ПТнг. ǯï̄ b-ma- ‘ходить в гости' (Цинциус 1975: 257). < ПА *ǯī̀bì: ПМонг. ǯuwka ‘очаг', ПКор. *čìp ‘дом', ПЯп *(d)ìpià ‘дом' (Starostin et al. 2003). 1.2.2. *čōra-n/ma ‘конический чум или тип яранги - чукотско-корякского переносного жилища с отдельными каркасами для стен и крыши (у восточных эвенков и эвенов)': СТнг эвк. čōrama (восточная диалектная группа) фольк. ‘жилище (восьмигранное с выходом через дымовое отверстие)'; čōrama ǯū, Урм, čōramanǯa ǯū ‘чум (эвенского типа, имеющий остов из вертикально поставленных подпорок, на которые устанавливаются жерди, образующие конус)', эвн. čōra (восточные и центральные диалекты) ‘треноги остова нижней части конического чума; чум', čōra- ‘ставить треноги; ставить чум', нег. čōramï ‘чум (старого типа), уд. čōlo ‘шалаш конической формы (крытый тисками, шкурами, корой)' (Левин, Потапов 1956: 835); ЮТнг нан. čōro ‘шалаш (охотничий), конический, крытый соломой или полосами бересты'; встречается у населения притоков Амура, киле и акани, т.е. у представителей северно-тунгусских по генетической принадлежности диалектов нанайского (Левин, Потапов 1956: 796); ма. čoron tataŋ ‘круглый шалаш, курень, из составленных кругом жердей в виде монгольской юрты' (Захаров 1875: 949) || (Цинциус 1977: 408; Doerfer 2004: 193-194, *čōra). 1.2.3. *xakdu(n) ‘стационарное (укрепленное) жилище; землянка?': ПСТнг. ‘берлога, нора', эвк. (все диалектные группы) абдун, авдун, аг-дун ‘берлога; нора'; ороч. агду(н) ‘берлога; нора барсука, гнездо', «наземный дом» (Иванов 1951: 76); уд. агду(н) ‘берлога, нора'; ПЮТнг ‘дом, берлога': ульч. χaGdu(n) ‘жилище, дом', орок. χaGdu(n) ‘берлога', нан. χaGdõ Найхин. (aGdõ Кур-Урмийск.) ‘берлога'; ма. aqdun ‘крепкий, надежный' (о месте) || (Цинциус 1975: 6). Нег. χaGdu(n) ‘жилище (бревенчатый зимник); берлога' явно заимствовано из ЮТнг языков, судя по начальному согласному и значению; по (Doerfer 2004: 105) из ульч.; губной согласный в середине слова в эвенкийском - очевидно, следствие контаминации с глагольным корнем *ab- ‘спать' (Цинциус 1975: 1). 1.2.4. *ugdā-n/ma ‘стационарная постройка': СТнг эвк. ugdāme, ugdan (восточные диалекты) ‘летнее жилище, из жердей, крытое корой лиственницы)'; ‘лабаз (помост на сваях с крышей из коры)'. По (Левин, Потапов 1956: 719), «безоленные эвенки жили в... четырехугольных домах с низким (2-5 венцов) срубом и двускатной крышей из лиственничной коры (угдама)». Эвн. udan (*ugdan) (Охотский) ‘лабаз (помост на сваях для хранения вещей)', нег. ogdan ‘летнее жилище, крытое берестой'; ма. uqdo, uqdun ‘землянка, пещера (вырытая в горе для жилья)' || (Цинциус 1977: 244, Doerfer 2004: 834 (*ugda-); Василевич 1961). Г.М. Василевич предлагает объединять СТнг слово с эвк. улдакса, угдакса ‘кора хвойных деревьев', нег. огдакса ‘кора'; но, судя по распространению обоих слов, если считать их связанными, следует предполагать производность названия коры как материала для постройки жилищ, а не наоборот, как у Василевич. 1.2.5. *kaba- ‘прямоугольный шалаш с двускатной крышей, крытый корой': СТнг ороч. kawa(n) ‘шалаш прямоугольный, летний, крытый еловой корой'; = уд. kawa (описание: прямоугольный остов, невысокие вертикальные стены, двускатная крыша из коры; летнее жилище (Левин, Потапов 1956: 835)); ЮТнг нан. qawa Нх, qawu Бк ‘шалаш, устраиваемый на охоте; шалаш для роженицы' || (Цинциус 1975: 391, 442). Ма. quwara- ‘огораживать' - производный от этой основы отыменной глагол на -ra-, см. (Аврорин 2000: 155-157), от него стандартное производное имя quwaran ‘забор, огород, двор, монастырь; казармы, обнесенные стеной, лагерь' (Захаров 1875: 286-287), сибэ quarən ‘courtyard' (Yamamoto 1969: 553). Ма. > письм.-монг. quwaran 'лагерь', халха хуаран(г) ‘казарма; лагерь; бивак' (Сухбаатар 1997: 201). Вероятно, ранним маньчжуризмом может быть орокское qaụ-ra(n) ‘шалаш из коры летний двускатный, двухдверный' (Старцев 2017: 156; Роон 1996: 109-112)5. Из орокского, по-видимому, заимствовано эвк. сах. kawran ‘жилище, сделанное из коры лиственницы' (Булатова 1999: 94, Мыре-ева 2004: 264). Эвк. сахалинское слово слабо засвидетельствовано, узко локальное, что подтверждает идею о заимствовании из орокского. Вероятно, также из орокского нивх. сах. q'awram ‘берестяной чум, шалаш, укрытие' (Гашилова 2017: 15). Однако ср. употребленное в нивхском фольклорном тексте название орокского жилища (Роон 1995: 149) кау-раф, которое может представлять собой композит со второй частью нивх. сах. т/раф ‘дом', где первая часть сравнима с амурским тунгусским kawa. Соответственно, гипотеза (а): эта последняя нивхская форма - частичное заимствование тунг. *kaba, из нивхского композита заимствовано с морфонологической адаптацией орокское qaụra(n), которое впоследствии вновь заимствовано в нивх. сах. q'awram и в эвк. сах. kawran; гипотеза (б): орокское слово, заимствованное из маньчжурского, заимствовалось в нивх. q'awram, которое впоследствии частично адаптировалось под нивхский композит. Второе предположение кажется вероятнее. 1.2.6. *biri- ‘настилать жерди' || (Цинциус 1975: 84, 127). 1.2.7. *sioru- ‘использовать жерди' (Тнг. ‘для строительства', Ма. ‘для гребли') || (Цинциус 1977: 72, 430 (в этимологию на с. 72 ошибочно включены рефлексы ПТМ *sōn ‘жердь, вешала'); Doerfer 2004: 710 (*siār-aŋï)). 1.2.8. *elbe- ‘покрывать (чум, жилище)', ‘покрышка чума' || (Цин-циус 1977: 445; Doerfer 2004: 306: elbe- ‘schliessen' Mankova-Ewenken). В Этимологическом словаре алтайских языков (Starostin et al. 2003) в ту же этимологию ошибочно включены эвк. ellun, eldun ‘нижняя часть покрышки чума'; эвен. ēlrimi ‘замшевая покрышка чума', ēlde (арманск.) ‘замша'; солон. eldū̃ ‘зимняя войлочная покрышка юрты' (Цинциус 1977: 448); скорее всего, это монголизм, из монг. elde- ‘дубить кожу'. 1.2.9. *önde-kēn ‘покрытие жилища': ПСТнг. ‘покрышка чума', ПЮТнг, ма. ‘доски, тёc, плахи' || (Цинциус 1977: 273, 274, 276; Doerfer 2004: 12023 *önä-kǟn). Вероятно, заимствованием из диалектных нанийских или маньчжурских форм этой основы может быть ороч. wentexe ‘коническое временное охотничье жилище из полуплах' (Цин-циус 1975: 132), ср. Тураев и др. (2001: 75): жилище типа голомо или утэн; нан. бикин. ventexen aoŋga (Сем 1976: 90-92); нан. ундхэн (Левин, Потапов 1956: 796): «зимнее промысловое жилье: четырехскатная крыша, в одной из сторон которой - дверь». Пратунгусские: 1.2.10. *ǖte(n) ‘временное зимнее жилище'. СТнг эвк. uten ‘корьевой чум (крытый корой хвойных деревьев), жилище (на зиму укрываемое землей)' (у восточных эвенков, с памятью об оседлой жизни - комментарий Василевич 1969: 112), эвн. ūtēn ‘землянка якутского типа' (Лин-денау (1983: 58) пишет о ламутах в Охотске: utan ‘зимнее жилище круглой формы, кругом обсыпано землей, вход сверху, крыша плоская, посередине очаг'), эвн. охотское utemŋē ‘старая, ветхая землянка', нег. ūtēn ‘зимний охотничий шалаш, заваленный снегом у основания', ороч. ūte-če-ken ‘жилище (фольк.)', уд. utuli, utulu ‘сени (крытая пристройка у зимнего шалаша)'; ЮТнг. орок. utemi ‘шалаш, охотничья избушка'; килэ yton ‘балаган для покойника' (Штернберг 1933: 483) || (Цинциус 1977: 295; Doerfer 2004: 892, «Paläoasiatisch?»). Эвк. утэн > як. ǖten ‘охотничий шалаш из конусообразно составленных плах с отверстием вверху, обмазанный глиной или обложенный дёрном'. 1.2.11. *хomara(n) ‘округлый шалаш': СТнг нег. omōxān (< *xomojo-kan < *xomoro-kan, demin.) ‘шалаш для собак; сферический шалаш летний' (Левин, Потапов 1956: 796); ЮТнг ульч. χomịra(n) ‘шалаш, крытый сеном, корой и т.п.', орок. χomarã ‘летнее жилище из бересты и тростниковой циновки', нан. бикин. xomora(n-) ‘балаган летний' (Сем 1976: 203) || (Цинциус 1977: 17). Может быть связано с эвн. ольским омар ‘лодка-долбленка' (Роббек 2005), ср. эвк. бираре omor-go- ‘править лодкой' (Doerfer 2004: 8690). Последние формы сравниваются у Цинциус (1977: 272) с *emu-re-čun ‘лодка-берестянка, челнок, оморочка; лодка-долбленка на одного-двух человек', см. (Аникин 2000: 424: от *emǖn (Doerfer 2004: *ämȫn) ‘один'). Но приведенные эвн. и бираре формы содержат o, а не ö, так что, скорее всего, не связаны с числительным. Ср. ПУ *korV, ПОбУг ‘Bootdecke', ПС ‘Dach' (Redei 1986-1989: 188). Cельк. kumar ‘летний чум-палатка' (опорным элементом для покрытия из бересты, брезента и др. служат деревянные дуги (Хелимский 2007); этнографическое описание см. в (Тучкова и др. 2012: 137)) и вост.-хант. kөmөr qat (Вах), kөmөr qat (Тремьюган) ‘куполообразный шалаш' (Терешкин 1981), по-видимому, заимствованы из до-ПСТнг. (с сохранением *x-). 1.2.12. *korï ‘сруб' || (Цинциус 1975: 415; Кормушин 1998: 249). Mа. χorin ‛клетка (для птиц), садок', ‛хлев', судя по начальному χ-, не является рефлексом ПТМ; может быть из амурских тунгусских языков (χori-‛огораживать' - из монг.). Ср. также эвк. бираре kōra ‛стена', например, yeɣin dapkur kōrači ‘wall of nine layers' (Doerfer 2004: 6331). Тунгусские формы нельзя рассматривать как монголизмы, вопреки (Doerfer 1985: 77) (хотя формы типа эвк. korigan наверняка из монг., см. (Poppe 1966, 191; ~ ПМонг *kurijen ‛огороженное место, двор, забор' и др. Starostin et al. 2003: 745-746). Специфика изготовления приамурских срубов - столбы с пазами для бревен (Левин, Потапов 1956: 820-821, Попов 1961: 190, 202) - позволяет связывать с этой этимологией ма. глагол qori- ‘выдалбливать' (Цинциус 1975: 415, Hauer 2007: 313) и таким образом восстанавливать ПТМ основу с глагольным значением. Возможно, тунгусское слово заимствовано в сельк. korım ‘амбар, лабаз' (Аникин, Хелимский 2007: 158). 1.2.13. *baksa ‘центральный столб, подпорка' || (Цинциус 1975: 67). 1.2.14. *tirē-w-ke ‘жерди крыши' || (Цинциус 1977: 187-188; Doerfer 2004: 793, (*tirǟ-)). От ПТМ глагола *tirē-w- «давить, придавливать» (в частности, детали постройки, ср. ма. čirge- ‘уколачивать, утрамбовывать землю трамбовкой; убивать фундамент; забивать под стены сваи, бут'). 1.2.15. *tuiksa ‘берестяная покрышка чума' || (Цинциус 1977: 179; Doerfer 2004: 785 (*tüksä)). Ма. tuqsa boo ‘шалаш, покрытый берестой', вероятно, южнотунгусское заимствование (нормально тунгусский суффикс -KsA соответствует ма. -XA). Эвк. > як. тиксэ ‘берестяная крыша' (Пекарский 1959: 266), рус. тиска, ср. (Аникин 2000: 547). 1.2.16. *malu ‘почетное место в жилище (напротив входа)' || (Цин-циус 1975: 525; Doerfer 2004: 533 (*malo); Futaky 1975: 28 (*malū)) (?) Заимствовано в ПОбУг *mălu ‘heilige Rückwand in der Wohnung'; ср. реконструкцию (Honti 1982, № 390: *măl-, *mūl ‘Hinterwand')). 1.2.17. *boi ‘место в жилище по обеим сторонам от входа, где кладут постели' || (Цинциус 1975: 78; Doerfer 2004: 123 (*biā)). Дифтонг с o реконструируется для ПТМ, поскольку ма. параллель к основе - boigon ‘Grund und Boden, Grundeigentum; Haushalt, Feuerstätte, Familie' (Hauer 2007: 55). Очевидно, для ПТМ следует восстанавливать более широкое значение «место». Ма. заимствовано в сол. boigõ ‘государство'. 1.2.18. *ǯokon или *ǯukun ‘внутренний угол в жилище' || (Цинциус 1975: 262). 1.2.19. *xondarï ‘покрытие стены' || (Цинциус 1975: 470; 1977: 18). Нег. onara-wu ‘полка вдоль нар' может быть заимствовано из северного диалекта без фонетического перехода *r>j; нег. xondoj ‘стенная циновка' заимствовано из южнотунгусского, на что указывают начальное x- и -nd-. 1.2.20. *beke(n) ‘косяк, порог > подоконник' || (Цинциус 1975: 123). 1.2.21. *sirVge ‘земляная или снежная завалинка' || (Цинциус 1977: 79). Возможно, заимствовано из монг., ср. ПСМонг. *siröge ‘частокол' (Lessing 1960: 757; Ramstedt 1935: 366; Санжеев и др. 2018: 144). Пра-севернотунгусские: 1.2.22. *harān ‘место для чума, пол; площадка под чум' || (Цинциус 1977: 317). Нег. xarandi ‘полуземлянка с двускатной крышей, стенами из плетенки, обмазанной глиной' (Старцев и др. 2014: 92) должно быть заимствованным из эвк., сол. или под. (севернотунгусского языка без перехода *r>j). Эвк. > долган. haran (Stachowski 1993: 97). 1.2.23. *sitkī ‘стенка чума' || (Цинциус 1977: 99). 1.2.24. *golo-ma ‘шалаш из плах в виде усеченной пирамиды': эвк. (все диалектные группы) golomo ‘жилище, зимовье из плах, окопанных землей или снегом'; golomo uten ‘корьевой чум' (Левин, Потапов 1956: 717); эвн goloma устар. ‘чум из жердей; шалаш для роженицы из жердей' || Производное от ПТМ *golo ‘бревно' (Цинциус 1975: 159-160; ср. Doerfer 2004: № 4259 gol (Lamut), 4275 golo (Birare, Amur) ‘Holzstamm (grosser, als Brennholz)', 4279 golofko (Northern) ‘Stange, Latte', 4280 golofko- ‘an einen Balken binden'). Заметим, что корень применяется к материалу для строительства только в СТнг; в других языках он по большей части значит «дрова». Эвк. заимствовано в як. голомо ‘шалаш, балаган (летний, из бересты)'; холомō ‘тип постоянного жилища - представляет пирамидальный или реже конусовидный остов из более или менее тесно соприкасающихся между собой тонких бревен, покрытых дерном' (Пекарский 1959: 3459); калыман ~ кулума ‘временное зимнее жилище, обложенное дерном'. 1.2.25. *güle - только эвк. (все диалектные группы) gule ‘жилище' || (Цинциус 1975: 171). Слово слабо зафиксировано в восточных диалектах эвенкийского, но при этом вряд ли стоит пытаться объяснить его как заимствование из манси *kül ‘Haus'; ср., хотя бы, начальную звонкость в эвк. Эвк. > рус. сиб. гуль ‘дом, жилье' (Аникин 2000: 171). Вероятно, эвк. заимствовано в як. kǖle ‘сени, передняя, притвор, пристройка' (Пекарский 1959: 1284) с эффектом передачи иноязычного ударения как долго ты?). Ср. ПУ *külä ‘Wohnung', фин. kylä ‘Dorf; Wohnung, Haus'; эст. küla; саам. gâl'li- (N) ‘visit, pay a visit to' и уже цитированное манси kül ‘Haus' (Redei 1986-1989: 155). Праюжнотунгусские: 1.2.26. *dabra ‘четырехстенный летник с двускатной крышей, крытой корой': орок. даоро ‘балаган из соломы и коры'; ульч. даwра ‘балаган из соломы и коры'; нан. дауро (Левин, Потапов 1956: 796) ‘четырехстенный летник, крытый корой'; || (Цинциус 1975: 186). Возможно, заимствовано из нивх., ср. нивх. *dä-B > тыф ‘дом' (реконструкция О.А. Мудрака). 1.2.27. *giaŋga ‘амбар на сваях' (согласно (Левин, Потапов 1956: 821), «длинные сооружения, у которых задняя часть, сложенная из бревен, использовалась обычно для хранения вещей, а в передней, дощатой, летом жили») || (Цинциус 1975: 147). Cр. нивх. *giŋɣäj > kinɣi ‘настил' (реконструкция О.А. Мудрака). 1.2.28. *kende-ri-ki ‘порог' || (Цинциус 1975: 448). Нег., ороч. и уд. формы - заимствования из южной группы, ср. сохранение -nd-. Возможна производность от ПТнг *kēndi- ‘загораживать, препятствовать' (Цинциус 1975: 448), - хотя в этом случае неясна краткость корневой гласной. 1.2.29. *gïlo(n) ‘нары с левой стороны от входа' || (Цинциус 1975: 151). Скорее всего, из нивх. *gel > кыл ‘часть нар у стены'. 1.2.30. *gočï ‘нары с правой стороны от входа' || (Цинциус 1975: 163). Отметим, что названия деталей характерного обогревательного устройства в жилищах амурских тунгусов и маньчжур, кана, для праюжнотунгус-ского и всех более ранних состояний не восстанавливаются: 1.2.31. Общее для СТнг, ЮТнг и ма. слово типа kula(n) ‘дымовая труба' || (Цинциус 1975: 428; Doerfer 2004: 6210 kolan NS (= Negidalisch nach Schmidt)). Упоминаемое Дёрфером монг. kulang (только халха ху-лан ‘дымовая труба, дымоход' (Пюрбеев и др. 2001)), скорее всего, маньчжурское заимствование. Ма. слово, судя по начальному x-, заимствование, возможно, из ЮТнг. Слово можно было бы реконструировать как ПТнг *kula(n), но севернотунгусские слова могут быть заимствованы из ЮТнг или маньчжурского. Ср. нивх. *qəla, *kəla ‘выводная труба очага, дымовая труба' (амур., амур. Пухта xla, q'la). Направление заимствования между тунгусскими и нивхским неясно, как нивхское слово может быть заимствовано из ЮТнг или ма., так и наоборот. Заметим, что это вовсе не обязательно первоначально принадлежность кана, может быть и просто дымоход. 1.2.32. Эвк. чулманское колаj ‘труба с изгибом', нег. χōl, ульч. χōlï; нан. χōl ‘дымоход под нарами старинного дома с канами', несомненно, заимствованы из монг.: письм.-монг. qoγulai ‘горло; труба ', монг. хоолой, бур. хоолой ‘то же', дагур. xuale, xuala, xual ‘кан' (< *qoγulai) (Тодаева 1986: 178). Дагур. заимствовано в сол. хуала - хуар (Ивановский 1894). Вероятно, из амурско-тунгусского заимствовано нивх. амур. к'ол ‘дымоход под нарами в зимнем жилище' (*qol ‘кан' в реконструкции О. А. Мудрака). Из того же монг. слова заимствовано ма. qoloi, xolo ‘желоб' (Цинциус 1975: 406). Очевидно, оттуда же корейское kolay (корэ) ‘hypocaust (heating system) flues' (Martin 1967: 139). Вероятно, корейское слово послужило источником нан. курэ ‘дымоход (наружная выводная часть, шедшая в старинном жилище от внешней стены дома до трубы)'. Вопреки Цин-циус (1975: 428), вряд ли с этим связано корейское култтук труба (дымовая) (Poppe 1960: 129) = kwul-ttwuk (Martin 1967: 217; kwūl ‘tunnel, cave' 216). Итак, это наименование дальневосточного отопительного устройства восходит к метафорическому монгольскому наименованию. 2. Обсуждение Для того чтобы понять, к каким типам жилищ относится восстановленная лексика, ниже мы кратко перечисляем типы устройства жилищ самодийцев, тунгусо-маньчжуров и окружающих народов по этнографическим и отчасти археологическим данным (номера приведенных выше этимологий даются в квадратных скобках рядом с названиями обсуждаемых жилищ). 2.1. Самодийцы и их соседи. Для северносамодийских народов характерен один тип жилища - разборный конический чум с покрышкой из оленьих шкур, зимой, возможно, двойной, летние покрышки могут быть сделаны из полотнищ бересты, соединение шестов с помощью петли, без обруча (Левин, Потапов 1956: 632, Попов 1961: 155)6; называется он во всех языках рефлексами ПС слова *mät [1.1.1]. Детальное описание селькупских жилищ см. в (Тучкова и др. 2012: 131-140; Тучкова 2014: 77-78). Селькупская полуземлянка карамо [1.1.10(2)] - обложенный дерном бревенчатый сруб, положенный над четырехугольной ямой глубиной около полуметра, с двускатной, почти плоской крышей и с земляным коридором в качестве дополнительного выхода, кроме отверстия-окна в крыше. Рис. 1. Ненецкий чум (Левин, Потапов 1956: 619) Для наземного варианта стационарного срубного жилища употребляется слово kore [1.1.10(1)] (как отмечено в (Тучкова и др. 2012: 140, Alatalo 2004: 328), так может быть назван и чум) и общее для любых типов жилища слово māt [1.1.1]; кроме того, имеются конический чум (māt с различными определениями, касающимися материала) и переносное цилиндрическое жилище, которое можно устанавливать на земле и на лодке - kumar [1.2.11]. Рис. 2. Селькупский карамо (Левин, Потапов 1956: 674) Рис. 3. Селькупский карамо с коридором - рисунок носителя языка (Alatalo 2004: 247) У северных селькупов имеется также жилище в форме усеченной пирамиды из плах с плоской крышей, частично засыпанное землей или снегом, именуемое pōj māt, буквально «деревянный дом» или t'aj māt ‘земляной дом'. Рис. 4. Пирамидальная постройка селькупов (Тучкова и др. 2012: 130; Alatalo 2004: 171) Жилище саянских самодийцев (маторцев и камасинцев) не дошло до современности; старыми авторами описывается как корьевой чум - коническое или пирамидальное жилище из деревянных плах, с плоской крышей, крытое лиственничной корой или частично плахами (по-видимому, идентичное североселькупскому pōj māt)7; либо же срубные многоугольные дома, идентичные тюркским - хакасским, алтайским - и, возможно, заимствованные у тюрок. Рис. 5. Корьевой чум качинцев (предположительно, перешедших на тюркский язык саянских самодийцев) (Попов 1961: 175) Стационарные жилища хантов и манси - срубные четырехугольные дома из плах с пологой двускатной крышей; у вахских хантов - землянка со срубом внутри, похожая на селькупскую карамо (контактное явление?). У восточных хантов отмечены также полуземлянки в форме усеченной пирамиды. Переносной чум хантов и манси заимствован у ненцев (так и называется «ненецкий дом», см. (Левин, Потапов 1956: 584)). Рис. 6. Жилище хантов (Левин, Потапов 1956: 585) Рис. 7. Пирамидальный шалаш восточных хантов (Попов 1961: 163) Два традиционных жилища - четырехугольную усеченную пирамиду-полуземлянку из вертикальных (наклонных) плах (baŋŋuʔś ‘землянка', букв. «земляной дом» baʔŋ + quʔś) и летний берестяной чум (quʔś < ПЕн. *χuʔs (Старостин 1995: 305)) находим у соседей селькупов, кетов. Конструкция кетского чума (скрепление опорных шестов с помощью развилок; дополнительное крепление с помощью обручей), видимо, ареально связанная: восточная часть северных и южных селькупов, восточные ханты, алтайцы, шорцы, тубалары (Алексеенко 1967: 88, Попов 1961: 155). Наземный вариант пирамидального жилища кетов, golʔomo (эвенкийское слово [1.2.24]), другое название konoγuʔś (буквально «теплый дом»), конструкционно отождествляется с североселькупским pōj māt и сравнивается с археологическим материалом по жилищу «досамоедского» населения Кети и Тыма в первые века и ранее (Алексеенко 1967: 100-101, Дульзон 1956: 208, 224-225). Рис. 8. Кетский чум (Левин, Потапов 1956: 694) Рис. 9. Кетская землянка baŋŋuʔś (Левин, Потапов 1956: 694) Стандартное стационарное жилище саянских и алтайских тюрок - многоугольный сруб с конической крышей, по форме соответствующий войлочной юрте и, видимо, имитировавший ее при переселении тюрок в таежные районы из степи. Рис. 10. Алтайская юрта (Попов 1961: 171, 175) Рис. 11. Качинская юрта (Попов 1961: 171, 175) Прямоугольные срубные дома у сибирских тюрок обычно связываются с русским влиянием; нехарактерность прямоугольного в плане жилища для тюрок косвенно подтверждается отсутствием «внутренний угол» > «часть жилища» (Дыбо 2008: 262). Конические чумы обнаруживаются у таежных тюрок: оленеводов, тофаларов; теленгитов, телеутов, хакасов (у метафоры тувинцев-всех них название - рефлекс основы *(a)laču-k, см. (Дыбо 2008: 228)) и у якутов (ураhа, из монг. *uruča, (Рассадин 1980: 83)). Кроме того, у таежных тюрок южной Сибири (хакасов, шорцев, ту-баларов) также зафиксированы стационарные жилища (туба кереге, остальные - рефлексы *ōtag, см. (Дыбо 2008: 226)), представляющие собой надстроенные над ямой четырехугольные усеченные пирамиды из наклонных плах с плоской крышей. Другое хакасское название для этого типа - ат-иб = хахпас иб (Левин, Потапов 1956: 412), ‘столбовой шалаш, крытый лиственничной корой, в форме усеченной четырехгранной пирамиды'. Второе слово композита - рефлекс ПТю *eb ‘дом'. Первая часть композита - заимствование, рефлекс ПЕн. *ʔa(ʔ)t- ‘дверь, задний угол чума' (Старостин 1995: 179). Второй хакасский композит - буквально ‘дом из коры'. Рис. 12. Шорский корьевой чум одаг (Попов 1961: 169) Рис. 13. Шорские жилища, 1. одаг (Левин, Потапов 1956: 507) 2.2. Тунгусо-маньчжуры. Что касается жилища маньчжуров, то в историческое время это достаточно общее для Приморья, Кореи и Северного Китая наземное каркасное прямоугольное в плане жилье с двускатной крышей и плетеными стенами, обмазанными глиной, с отоплением канами, см. (Задвернюк 2014: 85-88). Это так называемое жилище типа фанза (кит.); оно широко распространено и среди других тунгусоманьчжурских народов Приморья и Амура. По общему мнению авторов этнографической литературы, этот тип для тунгусо-маньчжуров является поздним и принесен из Северного Китая не ранее XIV в. - см., например, (Иванов 1951: 75). Надо, однако, заметить, что, согласно Задвернюк (2014: 85-88), Артемьевой (1987, 1998: 11), Деревянко (1991: 104), жилища с ка-нами - полуземляночные и наземные - археологически фиксируются на территории начиная с мохэской эпохи (IV-VII вв. н.э.). Кроме того, из словаря Захарова (1875) нам известны еще ма. название землянки (uqdo, uqdun [1.2.4]) и название жилища типа чума (čoron tataŋ [1.2.2]). У эвенков жилища очень разные, поскольку сами эвенки занимают огромную территорию с разными климатическими условиями и этническими контактами. Общее название для дома (ǯu, [1.2.1]) применяется к шестовому чуму с покрышкой из бересты, где много подходящего материала, или из шкур (ровдуги - замши) в другом случае - переносное и летнее жилище (особенности: крепление шестов с помощью развилки, без обруча (Василевич 1969: 110; ср. Попов 1961: 165). Рис. 14. Эвенкийский конический чум (Попов 1961: 184) У восточных эвенков употреблялись также жилища чорама [1.2.2] - тип чукотской яранги. У эвенов, так же как у эвенков, имеется ǯu [1.2.1] - конический чум, крытый берестой, он же ïlun (Тураев и др. 1997: 78) (от глагола *ïlu- ‘ставить' (Цинциус 1975: 303)), а в районах старых контактов с чукчами и коряками - čoram ǯu [1.2.2], копирующий чукотско-корякскую ярангу, переносное жилище с отдельными каркасами стен и крыши. Рис. 15. Эвенское жилище чорама-дю (Левин, Потапов 1956: 766) Однако такое развитие значения для названия жилища [1.2.2] *čōra-n/ma (тип яранги, переносное жилище с отдельными каркасами для стен и крыши) характерно только для восточных эвенков и эвенов, контактирующих с чукчами и коряками. В других тунгусо-маньчжурских языках рефлексы этого слова обозначают конический чум. Рис. 16. Негидальский чум старого типа чорами (1.2.2) (Попов 1961: 186) = ǯokča (1.2.1) (Левин, Потапов 1956: 779) Рис. 17. Нанайский охотничий шалаш чōро (1.2.2) (конический, крытый соломой или берестой) (Попов 1961: 188). Отметим еще конический чум у ороков, с названием awundaqu (производное от глагола aw- ‘спать' (Цинциус 1975:1)); чум кроют корой, а зимой рыбьими шкурами (Левин, Потапов 1956: 857). Рис. 18. Орокский конический чум awundaqu (Попов 1961: 186, Левин, Потапов 1956: 857) Безоленные эвенки жили в корьевых чумах в форме усеченной пирамиды, с плоской крышей, утепленных приваливаемой землей или снегом, с названиями голомо [1.2.24] (зап.) или утэн [1.2.10] (вост.) (Василевич 1969: 112). Рис. 19. Эвенкийский корьевой чум утэн [1.2.10] (охотские эвенки) (Попов 1961: 185; Левин, Потапов 1956: 717-718) Такое жилье в виде усеченной пирамиды, полуземляночное или утепленное приваливаемой землей, встречаем также у эвенов ((Линде-нау 1983: 58) - utan; (Цинциус 1977: 295) - ūtēn «землянка якутского типа»), у низовых негидальцев - ūtēn (Старцев и др. 2014: 94) [1.2.10], измененное на коническое - у верховских; у орочей (ventexa [1.2.9] (Тураев и др. 2001: 55): жилище типа голомо или утэн; с коническим вариантом (Ларькин 1964: 50); у ульчей ǯojo (Иванов 1951: 73) - уменьш. от ǯo ‘дом' [1.2.1]), у нанайцев ундхэн (Левин, Потапов 1956: 796) ‘зимнее промысловое жилье: четырехскатная крыша, в одной из сторон которой - дверь' (а по Цинциус (1977: 273) ундэхэ(н) аӊко ‘рубленый балаган'); у бикинских нанайцев ventexen [1.2.9] aoŋga (Сем 1976: 90-92). Неясна форма орокской зимней охотничьей избушки из бревен utemi [1.2.10] (Озолиня 2001: 389): по Миссоновой (2013: 317) utemi это «летний шалаш, крытый соломой, с двускатной крышей», по другим источникам называемый у ороков qawra [1.2.5]. Еще один тип эвенкийского стационарного жилища, использовавшегося и как зимник, - четырехугольные дома с низким срубом и двускатной крышей. В уже цитированной работе Левина, Потапова (1956: 719) авторы пишут: «Безоленные эвенки жили в... четырехугольных домах с низким (2-5 венцов) срубом и двускатной крышей из лиственничной коры (угдама) [1.2.4] - это стационарное жилище, использовавшееся и как зимник. Жилье типа угдама распространено также среди амурских тунгусо-маньчжуров» (см. также Василевич (1969: 113)). Рис. 20. Ульчская полуземлянка ǯojo [1.2.1] (Иванов 1951: 73) У ульчей этот тип постройки называется χaGdu [1.2.3] (Левин, Потапов 1956: 820-821), так же и у негидальцев (Иванов 1951: 87), или qojma ʒuu (Старцев и др. 2014: 94) (первое слово - прилагательное по *korï ‘сруб' [1.2.12], второе - «дом»); у низовых нанайцев хагдун [1.2.3], у орочей агду [1.2.3] (Иванов 1951: 87) и туэдзя (букв. «зимник») (Тураев и др. 2001: 54). В орокском по (Озолиня 2001) χaGdun значит «берлога», но по Иванову (1951: 62) muri χaGdunï и ïχa χaGdunï (буквально «конский хагдун» и «коровий хагдун») - соответственно ‘конюшня' и ‘коровник', и по фотографии это срубные строения (Там же: 64). Рис. 21. Эвенкийское жилище угдама [1.2.4] (Попов 1961: 185, Левин, Потапов 1956: 717-718) Рис. 22. Орочский туэдзя (буквально «зимний дом») (Тураев и др. 2001: 53-54; Попов 1961: 192) Еще одно стационарное жилище эвенков, отмечаемое этнографами - полуземлянка калта: бревенчатый сруб над четырехугольной ямой, заваливается землей и глиной, двускатная крыша, внутри печь с каном; распространено было у охотских эвенков, на Амуре, Амгуни и у нивхов (Василевич 1969: 115). Ср. эвк. kaltamnī (от глагола kalta- ‘раскалывать пополам') ‘половина; землянка, временное жилище; промысловый односкатный шалаш', эвн. kaltu ‘чум, временная летняя юрта'; нег. kaltï ‘заслон от ветра', орок. qaltamï ‘получум, заслон от ветра' (Цинциус 1975: 367-368). Таким образом, определенного названия жилища данная основа не обозначает, значит только «временное жилье». Точно так же, как описывается эвенкийская полуземлянка, описывается и полуземлянка негидальцев xarandi [1.2.22]: ‘полуземлянка с двускатной крышей, стенами из плетенки, обмазанной глиной' (Старцев и др. 2014: 92) (от *paran ‘место жилища', слово должно быть заимствованным из эвк., сол. или другого севернотунгусского языка без перехода *r>j). Так же выглядит нанайский тип жилища хурбу (Цинциус 1975: 478) (рис. 23). Это последнее название отмечено только в нан. и в ульч. (хулбу: старинное название полуземлянки (Иванов 1951: 73)); возможно, заимствование из нивх. к'рыуф ‘привал' (имя от глагола «отдыхать»). Рис. 23. Нанайский хурбу, полуземлянка с двускатной крышей (Левин, Потапов 1956: 796) Рис. 24. Зимняя родильная полуземлянка ульчей (Иванов 1951: 67) Как отдельный тип жилища этнографы выделяют для тунгусов землянку, которая отличается от полуземлянки степенью заглубления (полуземлянка приблизительно на полметра, землянка - на полтора и больше, так что стены целиком ниже поверхности земли). Отмечена для нанайцев: сёромо (Левин, Потапов 1956: 796) ‘зимняя землянка со срубом, установленным в вырытой в земле яме; двускатные
Ключевые слова
семантическая реконструкция,
жилище,
этимология,
самодийские языки и народы,
тунгусо-маньчжурские языки и народыАвторы
| Дыбо Анна Владимировна | Институт языкознания РАН; Томский государственный университет | член-корреспондент РАН, доктор филологических наук, главный научный сотрудник; заведующая лабораторией лингвистической антропологии | adybo@mail.ru |
Всего: 1
Ссылки
Аврорин В.А. Грамматика маньчжурского письменного языка. СПб.: Наука, 2000
Адаев В.Н., Зимина О.Ю. Каркасно-столбовые жилища наземного типа в Западной Сибири: археолого-этнографические параллели // Археология, этнография и антропология Евразии. 2016. № 3
Алексеенко Е.А. Кеты. Историко-этнографические очерки. Л.: Наука, 1967
Аникин А.Е. Этимологический словарь русских диалектов Сибири. Заимствования из уральских, алтайских и палеоазиатских языков. Москва; Новосибирск: Наука, 2000
Аникин А.Е., Хелимский Е.А. Самодийско-тунгусские лексические параллели. М.: ЯСК, 2007
Артемьева Н.Г. Раннесредневековые жилища Приморья // Советская археология. 1987. № 1. С. 84-89
Артемьева Н.Г. Домостроительство чжурчжэней Приморья (XII-XIII вв.). Владивосток: Дальпресс, 1998
Арутюнов С.А. (ред.). Свод этнографических понятий и терминов. Материальная культура. М.: Наука, 1989
Безносикова Л.М. (ред.) Словарь диалектов коми языка: в 2 т. Сыктывкар: Кола, 2012
Булатова Н.Я. Язык сахалинских эвенков. СПб.: Наука, 1999
Вайнштейн С.И. Проблемы истории жилища степных кочевников Евразии // Советская этнография. 1976. № 4. С. 42-62
Василевич Г.М. Угдан - жилище эвенков Яблонового и Станового хребтов // Сборник Музея антропологии и этнографии. Т. XX. Л.: Наука, 1961. С. 30-39
Василевич Г.М. Эвенки. Историко-этнографические очерки (XVIII - начало XX в.). Л.: Наука, 1969
Гашилова Л.Б. Нивхско-русский тематический словарь (сахалинский диалект). СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2017
Гирфанова А.Х. Словарь удэгейского языка. СПб.: Наука, 2001
Деревянко Е.И. Древние жилища Приамурья. Новосибирск: Наука, 1991
Дульзон А.П. Археологические памятники Томской области // Труды Томского областного краеведческого музея. 1956. Т. V. С. 89-316
Дыбо А.В. Семантическая реконструкция в алтайской этимологии: дис. … д-ра филол. наук. М., 1992
Дыбо А.В. Семантическая реконструкция в алтайской этимологии. М.: ЯСК, 1996
Дыбо А.В. Лингвистические контакты ранних тюрков. М.: Восточная литература, 2007
Дыбо А.В. Материальный быт ранних тюрок. Жилище // Природное окружение и материальная культура пратюркских народов. М.: Восточная литература, 2008. С. 219- 272
Дыбо А.В. Семантическая реконструкция в алтайской этимологии: лексика конкретного словаря // Слово и язык: сб. статей к 80-летию акад. Ю.Д. Апресяна. М.: ЯСК, 2011. С. 359-391
Дыбо А.В., Норманская Ю.В. Прасамодийская лексика материальной культуры // Linguistica Uralica. 2016. Vol. 52, Issue 1. Р. 44-53
Задвернюк Л.В. Историческое формирование традиционного жилища Маньчжурии // Вестник Тихоокеанского государственного университета, 2014. № 2 (33). С. 83-92
Захаров И. Полный маньчжурско-русский словарь. СПб.: Типография Императорской академии наук, 1875
Иванов С.В. Старинное зимнее жилище ульчей // Сборник Музея антропологии и этнографии. Т. XIII. М.; Л. 1951. C. 60-124
Ивановский А.О. Manjurica. Т. 1. Образцы солонского и дахурского языков. СПб., 1894
Иващенко Я.С. Семиотика традиционного жилища (на материале нанайской культуры). Комсомольск-на-Амуре, 2005
Константинова О.А. Тунгусо-маньчжурская лексика, связанная с жилищем // Очерки сравнительной лексикологии алтайских языков. Л.: Наука, 1971. С. 224-256
Кормушин И.В. Удыхейский язык. М.: Наука, 1998
Ларькин В.Г. Орочи (историко-этнографический аспект с середины XIX века до наших дней). М.: Наука, 1964
Левин М.В., Потапов Л.П. (ред.) Народы Сибири. М.; Л.: Наука, 1956
Левин М.В., Потапов Л.П. (ред.) Историко-этнографический атлас Сибири. М.; Л.: Изд-во Академии Наук СССР, 1961
Левитская Л.С., Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков: Общетюркские и межтюркские основы на буквы «Җ», «Ж», «Й». М.: Наука, 1989
Линденау Я.И. Описание народов Сибири. Магадан: МКИ, 1983
Лукина Н.В. (ред.) Очерки культурогенеза народов Западной Сибири. Поселения и жилища. 1. Томск: Изд-во ТГУ, 1994
Миссонова Л.И. Лексика уйльта как историко-этнографический источник. М.: Наука, 2013
Мыреева А.Н. Эвенки. Эвенкийско-русский словарь. Новосибирск: Наука, 2004
Норманская Ю.В. Реконструкция прауральского разноместного ударения и его влияние на развитие системы вокализма. М.: ЯНМ, 2018
Норманская Ю.В., Дыбо А.В., Башарин П.В., Амелина М.К. Новые прасамодийские этимологии // Урало-алтайские исследования. 2015. № 1. С. 62-73
Озолиня Л.В. Орокско-русский словарь. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2001
Оненко С.Н. Нанайско-русский словарь. М.: Рус. яз., 1980
Пекарский Э.К. Словарь якутского языка. [Б.м.] 1959. Т. I-III (фототип. изд.)
Попов А.А. Жилище // Левин М.В., Потапов Л.П. Историко-этнографический атлас Сибири. М.; Л.: Изд-во Академии Наук СССР, 1961. С. 151-157
Пюрбеев Г.Ц. (ред.) Большой академический монгольско-русский словарь. Т. 1-4. М.: Восточная литература, 2001
Рассадин В.И. Монголо-бурятские заимствования в сибирских тюркских языках. М.: Наука, 1980
Расторгуева В.С., Эдельман Д.И. Этимологический словарь иранских языков. Т. III. М.: Вост. лит., 2007
Роббек В.А., Роббек M.E. Эвенско-русский словарь. Новосибирск: Наука, 2005
Роон Т.П. Мистический образ одежды (по материалам нивхского и ультинского шаманства) // Вестник Сахалинского музея: ежегодник Сах. обл. краевед. музея. 1995. Вып. 1. С. 136-151
Роон Т.П. Уйльта Сахалина: Историко-этнографическое исследование традиционного хозяйства и материальной культуры XVIII - cep. XX веков. Южно-Сахалинск: Сахалин. кн. изд-во, 1996
Санжеев Г.Д. (ред.) Этимологический словарь монгольских языков. Т. 3. М.: Вост. лит., 2018
Сем Л.И. Очерки диалектов нанайского языка. Бикинский (уссурийский) диалект. Л.: Наука, 1976
Соколова З.П. Жилище народов Сибири (опыт типологии). М.: Наука, 1997
Старостин С.A. Сравнительный словарь енисейских языков // Кетский сборник. М.: Наука, 1995. С. 176-315
Старцев А.Ф. Ороки - орочёны, а не уйльта! К проблеме этногенеза ороков Сахалина. Владивосток: Дальнаука, 2015
Старцев А.Ф. Этнические параллели в культуре ороков Сахалина, эвенов Охотского побережья и тунгусо-маньчжурских и других народов бассейна Амура // Диалог культур Тихоокеанской России: межэтнические, межгрупповые, межличностные коммуникации: сб. науч. ст. Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2017. С. 153-162
Старцев А.Ф. (ред.) История и культура негидальцев. Владивосток: Дальнаука, 2014
Сүхбаатар О. Монгол хэлний харь үгийн толь. Улаан-Баатар: Адмон Компани, 1997
Терентьев В.А. Древнейшие тюрко-самодийские языковые контакты // Aikakauskirja. JSOu 88. 1999. P. 173-200
Терешкин Н.И. Словарь восточнохантыйских диалектов. Л.: Наука, 1981
Тодаева Б.Х. Дагурский язык. М.: Вост. лит., 1986
Толстой Н.И. О некоторых возможностях лексикосемантической реконструкции праславянских диалектов // Проблемы лингво- и этногеографии и ареальной диалектологии. М.: Наука, 1964. С. 37-39
Толстой Н.И. Некоторые проблемы сравнительной славянской семасиологии // VI съезд славистов. Прага, 1968. Доклады советской делегации. М.: Наука, 1968. С. 339-365
Тураев В.А. (изд.) История и культура нанайцев: историко-этнографические очерки. М.: Наука, 2003
Тураев В.А. (изд.) История и культура орочей. СПб.: Наука, 2001
Тураев В.А. (изд.) История и культура эвенов. СПб.: Наука, 1997
Тучкова Н.А. Селькупская ойкумена: обжитое пространство селькупов южных и центральных диалектных групп. Томск: Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2014.
Тучкова Н.А., Глушков С.В., Головнёв А.В., Кошелева Е.Ю. и др. Селькупы. Очерки традиционной культуры и селькупского языка. Томск: Изд-во Том. политех. ун-та, 2012.
Хелимский Е.А. Древнейшие венгерско-самодийские языковые параллели. М.: Наука, 1982.
Хелимский Е.А. Компаративистика, уралистика. Лекции и статьи. М.: ЯСК, 2000.
Хелимский Е.А. Северноселькупский словарь (селькупско-русский и русско-селькупский). Hamburg: Institut für Finnougristik/Uralistik der Universität Hamburg, 2007.
Цинциус В.И. Сравнительная фонетика тунгусо-маньчжурских языков. Л., 1949.
Цинциус В.И. (ред.) Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков. Т. 1-2. Л.: Наука, 1975. Т. 1; 1977. Т. 2.
Шавкунов Э.В. Культура чжурчжэней-удигэ XII-XIII в. и проблема происхождения тунгусских народов Дальнего Востока. М.: Наука, 1990.
Штернберг Л.Я. Гиляки, орочи, гольды, негидальцы, айны. Хабаровск: Дальгиз, 1933.
Alatalo J., Sirelius U.T. Sölkupisches Wörterbuch aus Aufzeichnungen von Kai Donner. Helsinki, 2004.
Benzing J. Die tungussischen Sprachen: Versuch einer vergleichender Grammatik. Wiesbaden, 1956.
Bereczki G., Agyagási K. Etymologisches Wörterbuch des Tscheremissischen (Mari). Der einheimische Wortschatz. Wiesbaden: Harrassowitz, 2013.
Castrén M. A. Wörterverzeichnisse aus den samojedischen Sprachen. St. Petersburg, 1855.
Doerfer G. Urtungisisch *ö // Doerfer, Gerhard and Weiers, Michael. Beiträge zur nordasiatischen Kulturgeschichte (Tungusica, 1.). Wiesbaden: Harrassowitz, 1978. S. 66- 116.
Doerfer G. Mongolo-Tungusica. Wiesbaden: Harrassowitz, 1985.
Doerfer G. Etymologisch-Ethnologisches Wörterbuch tungusischer Dialecte (vornehmlich der Mandschurei). Hildesheim; Zürich; New York: Georg Olms Verlag, 2004.
Donner K. Kamassisches Wörterbuch. Nebst Sprachproben und Hauptzügen der Grammatik / Hrsg. von A. J. Joki. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 1944.
Futaky I. Tungusische Lehnwörter des Ostjakischen. Harrassowitz (Veroffentlichungen Der Societas Uralo-Altaica, Band 10), 1975.
Hauer E. Handwörterbuch der Mandschusprache. Herausgegeben von Corff, O. Wiesbaden: Harrassowitz, 2007.
Helimski E. Die Matorische Sprache. Wörterverzeichniss; Grundzüge der Grammatik; Sprachgeschichte. Szeged: University of Szeged, 1997.
Helimski 2007a - Нганасанские словарные материалы. URL: www.helimski.com.
Helimski 2007b - Энецкие словарные материалы. URL: www.helimski.com.
Honti L. Geschichte des obugrischen Vokalismus der ersten Silbe. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1982.
Hu Zengyi. Iche Manzhu Nikan Gisun Kamchibuha Buleku Bithe (New Manchu Chinese Dictionary). Urumchi: Xinjiang Minority Publishing House, 1994.
Itkonen Erkki et al. Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja. V. 2. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1995.
Janhunen J. Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki: Suomalais-ugrilainen seura, 1977.
Lessing F.D. Mongolian-English Dictionary. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 1960.
Martin S.E., Yang Ha Lee, Sung-Un Chang. A Korean-English Dictionary. New Haven; London: Yale University Press, 1967.
Oskolskaya S., Koile E., Robbeets M. A Bayesian approach to the classification of Tungusic languages // Diachronica. 2021. https://doi.org/10.1075/dia.20010.osk.
Poppe N. Vergleichende Grammatik der Altaischen Sprachen. Teil 1. Vergleichende Lautlehre. Wiesbaden: Harrassowitz, 1960.
Poppe N. On some ancient Mongolian loan-words in Tungus //Central Asiatic Journal. 1966. Vol. 11, No. 3.
Ramstedt G.J. Kalmückisches Wörterbuch. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 1935.
Redei K. Uralisches etymologisches Wörterbuch. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1986-1989.
Robbeets M., Bouckaert R. Bayesian phylolinguistics reveals the internalstructure of the Transeurasian Family // Journal of Linguistic Evolution. 2018. № 3. P. 145-162.
Sammallahti P. Historical Phonology of the Uralic Languages // The Uralic Languages. Leiden: Brill, 1988. P. 478-554.
Stachowski M. Dolganischer Wortschatz. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1993.
Starostin S.A., Dybo A.V., Mudrak O.A. An Etymological Dictionary of Altaic Languages. Leiden: Brill, 2003.
Yamamoto K. A Classified Dictionary of Spoken Manchu. Tokyo: Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, 1969.
STARLING software: https://starling.rinet.ru/descrip.php?lan=en#bases
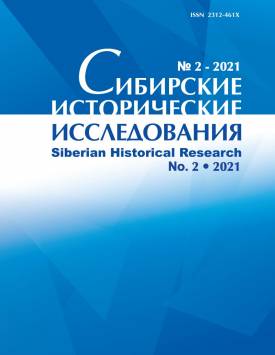

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью