«Я не хочу об этом знать»: механизмы памяти и забвения у коммунистов во Франции
Многие бывшие французские коммунисты, добровольно или принудительно вышедшие из компартии, занимались литературной практикой самокритики в своих воспоминаниях, автобиографиях и мемуарах. В данной статье на основе их автобиографических сочинений изучается роль темы памяти и забвения в описании их политической биографии. Одним из главных механизмов коллективной и индивидуальной памяти французских коммунистов было «вытеснение». Когда оно переставало выполнять свою терапевтическую функцию, экс-коммунисты использовали в своих мемуарах самокритику как восстанавливающее память средство, с помощью которого можно было осознать или оправдать свое прошлое. Таким образом, самокритика - обвинительная институциональная практика у коммунистов - трансформировалась в освободительную литературную практику для бывших коммунистов, которые возвращали вытесненные воспоминания посредством написания мемуаров. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
“I Don’t Want to Know About It”: Mechanisms of Memory and Oblivion Among the Communists in France.pdf Введение В данной работе затрагивается тема памяти и забвения применительно к описанию отношения к коммунистической идее и партии в автобиографических текстах бывших членов Французской коммунистической партии (ФКП), исключенных или добровольно вышедших из нее. К этим текстам мы относим не только мемуары и автобиографии, но и художественные произведения, содержащие автобиографические детали. Автобиографические сочинения бывших коммунистов структурируются схожим образом. Авторы описывают обстоятельства вступления в ФКП, период политической приверженности коммунизму, а также причины и историю своего идеологического отдаления или разрыва с коммунизмом. Бывшим коммунистам зачастую приходилось признавать свои прежние ошибки и заниматься самокритикой, к которой они были привычны. Такая литературная самокритика восходит к аналогичной практике, навязываемой коммунистическими партиями по всему миру своим членам или даже руководителям в форме автобиографических вопросников, письменных очерков или устных выступлений. Замысел начатой Сталиным в первой половине 1928 г. кампании самокритики предполагал не критику отдельным человеком самого себя, а критику им всего рабочего класса. Задача была в том, чтобы развернуть внутреннюю критику того, что происходило в СССР. Речь шла не об индивидуально осуществляемом действии, а о коллективном феномене. К самокритике призывали лозунги на тарелках в советских столовых, стенгазеты и агитационные плакаты. Самокритика велась как в устной, так и в письменной форме. Например, на собраниях от рабочих ждали, чтобы они публично рассказали, что не так на их рабочем месте. Но высказывать свои замечания вслух все же трудно, и, следовательно, такая форма критики оставалась ограниченной. В этот начальный период самокритика разворачивалась в основном на страницах газет. В процессе развертывания кампании самокритики в 1928-1930 гг. она пре-60 «Я не хочу об этом знать»: механизмы памяти и забвения вратилась в испытанный метод исправления собственных недостатков, и истинные коммунисты, верные принципам партии, искренне и добровольно занимались самокритикой. Традиционные проблемы во взаимоотношениях между руководителями и подчиненными приобрели необычайный размах на Пленуме ЦК в феврале-марте 1937 г., после которого с новой силой начала разворачиваться самокритика. Она стала одним из видов оружия, которое использовалось в ходе массовых репрессий 1937-1938 гг. В жестокой реальности от красивой идеи не осталось и следа, и самокритика стала одним из многочисленных видов политического контроля в СССР. В 1948-1953 гг. в Восточном блоке имела место целая серия показательных чисток и судебных процессов, в которых использовались методы, ранее оказавшиеся успешными в СССР, в том числе и самокритика. В Болгарии, Румынии, Польше, Албании, Венгрии и Чехословакии неугодных партии коммунистов обвиняли в измене, титоизме, подкупе американскими или израильскими властями, заговоре против партии. Они подвергались допросам, с помощью которых их пытались заставить дать ложные показания и признать свои «преступления». (В ФКП вместо судебных процессов исключали из партии.) После смерти Сталина самокритика практиковалась вплоть до конца 1980-х гг., но уже не так масштабно. Вопрос институциональной самокритики у коммунистов достаточно хорошо изучен историками и философами, социологами и политологами. Далее будут упомянуты лишь некоторые работы. В книге «Пять процентов правды» (2004) Франсуа-Ксавье Нерар (Fran^ois-Xavier Nerard) исследует первую кампанию критики и самокритики, развернутую в СССР в 1928 г. (Нерар 2011). В нескольких сборниках (Autobiographies... 2002; Le Sujet communiste... 2014) под редакцией Клода Пеннетье (Claude Pennetier) и Бернара Пюдаля (Bernard Pudal) изучались такие специфические советские практики, как автобиографии, хранившиеся в отделах кадров, или самокритика в ходе партийных чисток. В своей диссертации «Коллективное и индивидуальное в России: изучение практик» (1999) Олег Хархордин, в свою очередь, обращается к размышлениям Мишеля Фуко о различных типах практик самопознания в раннем христианстве и сравнивает советские техники самовыражения и работы над собой (в том числе и самокритику) с аналогичными практиками в православии (Хархордин 2002). Наконец, Бертольд Унфрид (Berthold Unfried) анализирует практику самокритики в рядах Коминтерна на основе архивных источников 1930-х гг. и проводит параллели между самокритикой и католической исповедью (Unfried 2006). Во Франции же бывшие коммунисты адаптировали эту институционально навязываемую практику самокритики в свою пользу, извлекли из нее когнитивные и литературные ресурсы для объяснения своего идеологического пути, анализа прошлой политической приверженности 61 Александра Сергеевна Виноградова и оправдания своего разрыва с идеалами коммунизма. В данной статье на основе их автобиографических сочинений будет предпринята попытка изучить роль темы памяти и забвения в описании их политической биографии. Как, в частности, следует трактовать роль забвения? Является ли оно способом осознанной коллективной проработки прошлого или неосознанным индивидуальным механизмом защиты, включающимся при вступлении или выходе из ФКП? В одной статье нельзя проанализировать все механизмы забвения, поэтому сконцентрируемся на таком его аспекте, как «вытеснение». На такую постановку проблемы нас наталкивает французская традиция изучения памяти. Память и забвение во французской традиции memory studies Сегодня во Франции, как и во всем мире, memory studies - исследовательское поле или даже самостоятельная дисциплина на стыке различных социальных и гуманитарных наук (Сафронова 2018, 2019). Как считают многие из современных ученых, у ее истоков, еще в начале ХХ в., стояла французская социологическая школа. В главной работе Мориса Хальбвакса (Maurice Halbwachs) «Социальные рамки памяти» (1925), чьими размышлениями о «коллективной памяти» исследователи продолжают вдохновляться и по сей день, можно найти рецепцию идей Эмиля Дюркгейма (Emile Durkheim), в особенности его статьи 1898 г. «Индивидуальные и коллективные представления». В отличие от Э. Дюркгейма, относившего социальную память к области бессознательного (Дюркгейм 1995), у М. Хальбвакса индивидуальное воспоминание обусловлено социальными рамками (Хальбвакс 2007). Лишь к 1980-м гг. к понятию «коллективная память» вновь обратился историк Пьер Нора (Pierre Nora), под чьим руководством в 19841993 гг. вышло в свет семитомное издание «Места памяти» (Нора и др. 1999). В этом труде группа французских ученых исследовала «места памяти» по всей стране, объединяя в этом понятии как физические, так и нематериальные символы национальной идентичности французов. В те же годы, когда осуществлялся проект П. Нора, историк Жак Ле Гофф (Jacques Le Goff) в книге «История и память» (1988) выделил, по крайней мере, две истории: историю как коллективную память (мифологизированную, искаженную, анахроничную) и историю историков. Согласно Ж. Ле Гоффу, вторая должна прояснять память и помогать исправлять ошибки первой (Ле Гофф 2013: 148). Но еще столетием ранее, в 1882 г., писатель и философ Эрнест Ренан (Ernest Renan) сделал в Сорбонне доклад «Что такое нация?», в котором рассмотрел историю и память в качестве инструмента формирования национальной идентичности (Ренан 1886). Этот текст одним из первых затронул механизмы забвения: Э. Ренан требовал, чтобы французы забыли Варфоломеев-62 «Я не хочу об этом знать»: механизмы памяти и забвения скую ночь (резню католиками гугенотов в 1572 г.) ради того, чтобы быть одной нацией. В своей самой известной работе «Воображаемые сообщества» (1991), а именно в главе «Память и забвение», политолог и историк Бенедикт Андерсон (Benedict Anderson) представил обширный и глубокий комментарий главного тезиса Э. Ренана об общности индивидов, составляющих нацию: «А сущность нации в том и состоит, что все индивиды, ее составляющие, имеют между собой много общего, и много разъединяющего их они в то же время забыли» (Андерсон 2016: 47). Историк Анри Руссо (Henry Rousso) анализировал механизмы забвения применительно к «синдрому Виши» - национальной травме, симптомы которой проявляются в политической, социальной и культурной жизни Франции (Rousso 1987). Исследователь выделил этапы эволюции памяти о режиме Виши, два из которых кажутся особенно важными для нашего исследования. Первый этап (1954-1971 гг.) состоял в «вытеснении» из памяти всего того, что не вписывалось в героический миф Сопротивления, сформированный доминирующей коллективной памятью голлистов и коммунистов. Второй этап (1971-1974 гг.), на котором произошло возвращение «вытесненного», Руссо назвал «Разбитым зеркалом». По мнению А. Руссо, ситуация с «синдромом Виши» во Франции изменилась тогда, когда поколение мая 1968 г., не желавшее замалчивать «неудобную» историю, пришло на смену поколению непосредственных свидетелей событий 1940-1944 гг., предпочитавших конфликтной памяти «вытеснение» и молчание. Схожие процессы можно проследить и на примере «мемуарного соревнования», о котором речь пойдет далее. Первым «вытеснение» как механизм психологической самозащиты описал Зигмунд Фрейд (Sigmund Freud) в одноименной статье 1915 г. Однако его современник французский психиатр Пьер Жане (Pierre Janet) в своей диссертации 1889 г. предложил еще один способ психологической защиты, заключающийся в восприятии личностью происходящего как чего-то, что присуще постороннему человеку. П. Жане назвал такой механизм диссоциацией. Если Фрейд изначально относил к «вытесненному» то, что переносится из сознания в бессознательное (Фрейд 1999: 108-123), то диссоциация Жане подразумевает вспоминание точных и подробных образов, но так, будто они относятся к кому-то постороннему (Жане 2009). Если у Фрейда информация, подверженная вытеснению, сначала была осознана и только потом вытеснена, то у Жане информация, подвергнутая диссоциации, в сознание вообще не допускается - фиксируется, но не осознается в качестве личного опыта. В книге философа Поля Рикёра (Paul Ricreur) «Память, история, забвение» (2000) анализируется связь истории со свойственными всем людям явлениями памяти и забвения. С точки зрения П. Рикёра, поми-63 Александра Сергеевна Виноградова мо нормальной формы забвения как дефицита работы памяти, у забвения есть еще как минимум две искаженных формы: с одной стороны, забвение неразрывно связано с манипуляциями «разрешенной, навязанной, прославляемой в мемориальных церемониях историей - историей официальной» (Рикёр 2004: 619). С другой стороны, в забвении зачастую «мотивом является смутное желание не получать сведений, не ведать о зле, совершаемом вокруг, короче, стремление не знать» (620). В этом смысле забвение влечет за собой ответственность за «незнание» (56) и «не-действование» (620). Как мы увидим далее по тексту, такая двойственная природа забвения, описанная П. Рикёром, свойственна в том числе и памяти коммунистов во Франции. Начнем же мы наш анализ именно с первой искаженной формы забвения по П. Рикёру: памяти, подвергнутой манипуляциям. «Мемуарное соревнование» в 1950-1980-х гг. Как нередко случается с партийной историей, картина прошлого ФКП полна умолчаний и намеренных искажений. Здесь мы сконцентрируемся на одном из аспектов ее формирования - «мемуарномемориальном соревновании» между коммунистами и их противниками (Jeannelle 2008: 133-140). Сразу после окончания Второй мировой войны образ коммунистов как борцов с нацизмом, электоральные успехи и рост членства партии привели к тому, что ФКП превратилась в одну из влиятельнейших политических сил во Франции. Тогда же в партию вступают многие видные историки, что впоследствии создаст дополнительную сложность в дискуссиях о памяти. Послевоенный период стал временем написания и публикации многочисленных мемуаров, в которых коммунисты и их противники по-разному осмысляют историю XX в. Прошлое стало объектом еще одной из многочисленных «войн памяти», на этот раз - между мемуарами коммунистов и их противников. Начиная с конца 1940-х гг. во Франции публикуются мемуары верных партии коммунистов (Bonte 1949, 1965; Barel 1967; Duclos 19681973; Figueres 1971; Midol 1973; Cogniot 1976-1978; Wurmser 1979; Jalee 1981; Lavigne 1981; Marcenac 1982; Jerome 1983). Среди авторов преобладают партийцы рабочего происхождения, вступившие в ФКП до Второй мировой войны. К ним можно отнести и более раннее сочинение генерального секретаря ФКП в 1930-1964 гг. Мориса Тореза (Maurice Thorez) - «Сын народа» (1937). Им противостояли автобиографические сочинения бывших коммунистов (Lecreur 1955; Herve 1958; Roy 1969, 1972, 1976; Desanti 1975; Daix 1976; Duvignaud, 1976; Robrieux 1977; Pannequin 1977; Tillon 1977; Rony 1978; Belloin 1979; Le Roy Ladurie 1982; Debray 1988, 1996, 1998; Garaudy 1989; Kriegel 1991), 64 «Я не хочу об этом знать»: механизмы памяти и забвения многие из которых были опубликованы вслед за «Самокритикой» (1959) Эдгара Морена (Edgar Morin), известного французского философа и социолога, которого исключили из партии в 1951 г. Эти два текста (Торез 1950; Morin 2012) представляют собой два противоположных способа литературного осмысления коммунистического опыта: в первом случае пропагандистскую литературу, а во втором - самокритику порвавших с коммунизмом интеллектуалов левого толка. Заинтересованная в представлении определенной картины прошлого, ФКП поощряла авторов к написанию и помогала опубликовать прошедшие внутреннюю цензуру воспоминания. В таких воспоминаниях члены ФКП пытались укрепить основы своей коммунистической веры, которую их биография должна была подтвердить, например, с помощью предлагаемых ими фактов. Определенную трудность для прокоммунистического нарратива с конца 1950-х гг. создавали факты, оглашенные Н.С. Хрущевым на XX съезде КПСС: действующие коммунисты сталкивались с несоответствием между реальным историческим ходом событий и памятью, предлагаемой им партией. Против идеологизированных воспоминаний убежденных членов ФКП выступали раскаявшиеся бывшие коммунисты, которым больше не приходилось слепо следовать указаниям партии. Они работали над тем, чтобы стереть в себе следы уже чужой коммунистической идентичности, и сами рисковали поддаться исторической недобросовестности в пылу своего негодования. Особенность автобиографических сочинений бывших французских коммунистов заключается в том, что распрощавшимся со своими прошлыми иллюзиями авторам пришлось документировать искажение истории, а не воспроизводить уже сложившийся героический нарратив (например, истории Сопротивления). Историк Эммануэль Ле Руа Ладюри (Emmanuel Le Roy Ladurie), вспоминая начало 1950-х гг., приводит пример своих прошлых иллюзий: «Громкие процессы (Райка и др.) ознаменовали для нас (в частности) конец 1949 г. и начало 1950-х гг. Через несколько лет настала очередь “дела врачей-вредителей” (евреев, ложно обвиненных в покушении на убийство советских лидеров). В тот момент мы обнаружили, не отдавая себе в этом отчета, антисемитизм в СССР. Для нас он не мог быть отвратительным антисемитизмом, сближавшим Сталина и Гитлера, хотя бы отдаленно... речь шла просто о законном и восстанавливающем правду антисионизме»1 (Le Roy Ladurie 1982: 67). Ладюри признает, что, будучи коммунистом, он принимал антисемитскую политику в сталинском СССР, не подвергая ее хоть какому-нибудь критическому осмыслению. Сразу же после воспоминаний о сфабрикованных процессах в Восточной Европе и СССР, историк припоминает другое громкое дело, которое проходило в те же годы, но в США: «Мы увидели в этой двойной смерти [супругов Розенбергов] признак официального антисе-65 Александра Сергеевна Виноградова митизма в Соединенных Штатах. Он существовал только в нашем воображении. Мы выступали против их казни, ошибочно думая, что боремся с антисемитизмом, замаскированным под антисионизм, в котором некоторые тогда обвиняли Советский Союз» (69). Итак, воскрешая в памяти воспоминания, бывшие коммунисты не могли в полной мере доверять им, они должны были объяснять в них несоответствия и прояснять для самих себя и своих читателей иллюзии, жертвами которых они стали. При этом они ощущали себя людьми, восстанавливающими историческую справедливость, давая объективные оценки происходившим событиям и способствуя «торжеству правды». В книге «Искатели богов: вера и политика» писатель Клод Руа (Claude Roy), которого в 1958 г. исключили из ФКП, пишет: «Полицейские архивы и секретные ящики частных владельцев в Москве, Пекине, Тиране, Афинах, Праге и Сантьяго должны быть заполнены мемуарами. Мы даже начинаем некоторые из них публиковать. Говорят, что правда всегда восторжествует. Но ей на это часто требуется время. А правда, которой оперативно, эффективно и методично сворачивали шею, никогда не восторжествует. История пишется победителями. И официальной памятью заведуют те, кто у власти» (Roy 1981: 177). Забывание как практика коллективной памяти французских коммунистов Проблематика памяти и забвения представляется для вышедших из ФКП авторов чрезвычайно болезненной и много определяющей. Для начала попробуем найти в их воспоминаниях ответ на вопрос: почему и для чего они забывали и вспоминали? В рассматриваемых нами текстах преднамеренное забвение часто ставится в один ряд с нежеланием знать факты, опровергающие героический нарратив коммунистов. В «Самокритике» Э. Морен так отзывается о послевоенных годах, наполненных ликованием и воодушевлением: «В политическом плане я сам находился в эйфорическом неведении о давлении на рабочих, которых призывали “в первую очередь производить”, не подозревал, что мы выслеживаем троцкистов и сообщаем о них полиции. Наконец, я не знал, что партия не только позволила, но и участвовала в преследовании алжирского националистического движения. Кроме того, я совершенно забыл о колониальном вопросе. Победные залпы заглушили в наших ушах резню в Сетифе. Я здесь не доказываю ни свою невиновность, ни вину: я признаю умственную атрофию» (Morin 2012: 85). (Отметим, что во Франции колониальный вопрос, и особенно упомянутый Алжир, настолько же болезненный, как и в Германии - вопрос о Холокосте.) Видно, что Э. Морен в 1959 г. мучительно признается в своей прежней забывчивости. В целом очень 66 «Я не хочу об этом знать»: механизмы памяти и забвения многие коммунисты (см., например (Desanti 1975; Duvignaud 1976; Kriegel 1991)), которые вступили в ряды ФКП до или во время Второй мировой войны, в своих воспоминаниях часто подчеркивают, что именно в послевоенной эйфории они забывали и о Московских процессах 1936-1938 гг., и о других преступлениях советского режима потому, что лишь один Советский Союз смог победить фашизм. Противоположностью преступному забвению и нежеланию знать правду Э. Морен называет коллективную память как таковую. В автобиографии «Мои демоны» он много говорит о преступлениях как в Советском Союзе, так и в нацистской Германии и о том, почему важно о них помнить. В одной из глав, посвященной коллективной памяти и этике наказания, Морен пишет: «Когда в Советском Союзе появилась ассоциация “Мемориал” , ее создатели требовали памяти, а не наказания. От того, что Папон (французский коллаборационист. - А.В.) в конце концов проведет десять лет в тюрьме, память об Освенциме не окрепнет. Вот почему я согласен с теорией Беккариа: у меня нет этики наказания. И я похож на сотрудников “Мемориала”, ассоциации жертв сталинских репрессий, для которых память о преступлениях тоталитаризма не является синонимом судебных процессов и обвинительных приговоров. “Мемориал” требовал не наказания виновных, а сбора данных и доказательств» (Morin 1994: 122). Итак, Э. Морен считает, что для разрешения дел о по-настоящему масштабных преступлениях, например таких, как Холокост в Германии или сталинские репрессии в СССР, недостаточно современных правовых систем. Похожую мысль высказывает и Алейда Ассман (Aleida Assmann): «Судебное преследование и судебное наказание являются необходимой предпосылкой для ответа на преступление против человечности, но в случае неисчислимых масштабов совершенного убийства сохраняется некий остаток, не охватываемый юридическим механизмом и требующий иных, дополнительных форм проработки. Моральным ответом на подобные... преступления служит установление всеобщей и обязательной коммеморации, носителем которой служит все человечество. Преступлениям против человечности суждено войти в память человечества» (Ассман 2014: 48). Другой формой забывания у членов ФКП было сознательное замалчивание известных фактов. Пример именно такого забвения (отличного от забвения в эйфории, о котором рассказывает Э. Морен) приводит в своей книге «Я» К. Руа. Один друг-коммунист уверял К. Руа, что их бывший соратник, писатель Андре Жид, который в 1936 г. после поездки в Советский Союз изложил свои честные и горькие впечатления в книге «Возвращение из СССР», сожалеет о содеянном. К. Руа приводит В 2014 г. организация «Мемориал» включена Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента. 67 Александра Сергеевна Виноградова слова друга: «Он (Жид. - А.В.) созрел, чтобы вернуться к действию. Нужно пойти к нему и поговорить с ним откровенно. Партия забудет о его прошлом (публикации “Возвращения из СССР”. - А.В.). Главное -будущее. Жид всегда на стороне будущего, а будущее - за СССР» (Roy 1969: 443). Итак, члены ФКП были готовы забыть о «неподходящем» прошлом своих знаменитых соратников, ведь партии было выгодно иметь в своих рядах видных деятелей науки и культуры, но для этого Жиду было необходимо признать свои прежние ошибки. После того как у К. Руа начались первые разногласия с партией в 1951 г., некоторые его бывшие товарищи резко отвернулись от него, но были и исключения. Например, Рене Блех, друг К. Руа, еще со времен Сопротивления, продолжал весьма откровенно обсуждать с ним проблемы и дела партии: «Он (Блех. - А.В.) не боялся говорить мне об ошибках, которые были сделаны в прошлом и которые, слава Богу, уже исправили. Но эти ошибки Казалось, он полностью забыл, что сам мог участвовать в них как личность. Он стер из своей памяти воспоминания о бурных дискуссиях, которые он вел со мной, авторитетно отрицая очевидность фактов, с тех пор блестяще доказанных и признанных даже теми, кто отрицал их с наибольшей страстью или праздностью ума. Ведь это Партия, коллективный мыслитель, допустила ошибки в своих расчетах, такие же невинные, как и те, что может сделать сломанный компьютер. Этот коллективный мыслитель, чей имманентный авторитет не подвергался сомнению, освободил Блеха от глупостей, которые он совершил, от чепухи, в которую он поверил, и от софизмов, которые он поддерживал» (Roy 1969: 270). Таким образом, К. Руа обвиняет друзей-коммунистов в осознанном забвении, призванном снять ответственность за личные ошибки. В эссе «Что значит “переработка прошлого”?» (1963) Теодор Адорно описал схожий механизм коллективного забвения: отказ немецкого послевоенного общества от национальной вины. Валерий Подорога приводит резюме данного эссе: «Адорно показывает, как работает национальная память, когда хочет как можно быстрее привести прошлое к забвению: она “грубо” и “наивно” его вытесняет И это понятно - ведь наиболее активная часть тогдашнего высшего чиновничества, управления и бизнеса ФРГ была тесно связана с нацистским режимом. Угроза осуждения исходила не от абстрактной вины всех, а от вполне доказуемой вины каждого. Когда отыскивались новые “аргументы” в пользу забвения, они скорее подыгрывали частичному признанию “вины всех немцев”, и это делалось для того, чтобы устранить из памяти индивидуальную вину. Для Адорно подобная “переработка прошлого” и есть механизм забвения, который он пытается разоблачить» (Подорога 2012). Однако если и немцы в послевоенной Германии, и коммунисты во Франции «грубо» и «наивно» вытесняли прошлое, то что же делали со сво-68 «Я не хочу об этом знать»: механизмы памяти и забвения ими воспоминаниями бывшие коммунисты, которые разочаровались в прошлых идеалах? Ведь они отделились от партии, которая для своих членов являлась не просто инструментом строго ограниченной политической деятельности, а семьей, местом всех надежд и гарантом судьбы всего человечества. Ясно, что политический разрыв способствовал тому, что автобиографическая литература становилась более эмоциональной и тенденциозной. Бывшие коммунисты часто кажутся менее справедливыми по отношению к коммунизму, чем те, кто никогда его не исповедовал, ведь для первых он принадлежит прошлому, которое они отвергают с большим трудом. Если А. Ассман говорила о длинной «тени прошлого, которое по-разному воздействует на настоящее» (Ассман 2014: 99), то в изучаемых нами автобиографических сочинениях бывших коммунистов можно говорить о тени, отбрасываемой их настоящим, в котором они пишут свои воспоминания, уже не будучи коммунистами. Они пытаются преодолеть это искажение и воссоздать прошлое усилием воображаемого самоанализа или самокритики, но получается ли у них? Похожие вопросы задает себе писатель Режис Дебрэ (Regis Debray), соратник Че Гевары в Боливии, чей разрыв с кубинским режимом произошел в 1989 г. после показательного процесса над его друзьями. Он считает, что нельзя полагаться на политическую память бывших коммунистов, которая еще менее надежна, чем другие виды памяти. Во втором томе («Слава нашим господам») автобиографической трилогии под общим названием «Время учиться жить» автор с иронией отзывается о воспоминаниях бывших коммунистов и в присущем ему метафорическом стиле пишет: «Если наши галеры оставят след в архивах, то никакого кильватера не останется после наших каравелл - кроме усмешки сошедшего на берег экипажа. Их короткий и великолепный ход не засвидетельствован. Как отдать должное сказкам, которые подошли к концу, и не поддаться порочному удовольствию от насмешек? Вот почему политическая память еще менее надежна, чем любая другая... В прежнее время отплытие на Киферу казалось нам слишком очевидным, чтобы мы могли найти ему объяснение; двадцать лет спустя оно кажется слишком экстравагантным, чтобы искать ему объяснение. Возвращение к сокровенным мыслям сталкивает двух незнакомцев, которые смотрят друг на друга с подозрением: один, заблуждавшийся до, и другой, разочаровавшийся после. Это тот момент, когда бывший (коммунист. - А.В.) обвиняет себя в том, что не сумел держаться подальше от тех прошлых событий» (Debray 1996: 73-74). Итак, Р. Дебрэ признается, что «двадцать лет спустя», когда он пишет свои воспоминания о годах, проведенных на стороне Че Гевары, он не может полагаться на свою память. Описывая в настоящем «сказки», в которые он верил раньше, он не может «не поддаться порочному удовольствию от насмешек». Когда Р. Дебрэ «возвращается к сокровенным мыслям», 69 Александра Сергеевна Виноградова вспоминает, сталкиваются два «я» писателя: коммунист из прошлого и бывший коммунист из настоящего - последний как раз и занимается самокритикой и самообвинением. Память и забвение в художественных произведениях Л. Арагона Изучая механизмы памяти и забвения в описаниях политических биографий бывших французских коммунистов, нельзя опустить ключевую фигуру среди интеллектуалов ФКП - писателя Луи Арагона (Louis Aragon). Его случай особенно интересен сразу по нескольким причинам: во-первых, он так и не вышел из ФКП, хотя у Л. Арагона часто возникали разногласия с руководством партии; во-вторых, у него самокритика никогда не бывает прямолинейной или четко сформулированной - писатель постоянно выбирает окольные пути; и наконец, на протяжении всей своей долгой литературной карьеры он постоянно отказывался писать мемуары или автобиографию. В 1956 г. Л. Арагон не занял никакой позиции по докладу Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС и хранил молчание по поводу Венгерского восстания в Будапеште. Однако в своем сборнике «Неоконченный роман» (1956), который часто называют поэтической автобиографией писателя, Л. Арагон, тем не менее, говорит о личных страданиях, вызванных откровениями и политическим разочарованием того ужасного года: «Год пятьдесят шестой - кинжал, что кто-то надо мной занес. / Все, что я вижу и люблю, полно тревог, полно угроз» (Арагон 1960: 235). Постепенно с осуждением преступлений режима в СССР писатель начал критиковать авторитарные методы советского коммунизма. Он открыл свою газету «Les Lettres fran^aises» для советских диссидентов и осудил процессы против интеллектуалов, в частности против писателей А. Синявского и Ю. Даниэля в 1966 г. В 1968 г., в год ввода в Чехословакию войск стран Варшавского договора, положившего конец реформам Пражской весны, Л. Арагон пишет предисловие к французскому переводу романа чешского писателя Милана Кундеры «Шутка», в котором достаточно резко отзывается о данных событиях: «И вот, в конце ночи, у транзистора мы услышали осуждение наших вечных иллюзий» (Aragon 1980: 10). В случае Л. Арагона, который, в отличие от многих французских экс-коммунистов, так никогда и не написал мемуаров, правильнее было бы сказать, что он писал «мемуары» на полях своего творчества. В своей жизни писателя-коммуниста Л. Арагон часто совершал ошибки и страдал из-за них. Однако, будучи коммунистом, он сознательно отказывался выступать с самокритикой, которую от него очень ждали, а будучи писателем, Л. Арагон так и не обратился к литературной практике самокритики в виде мемуаров, но все же в некоторых художественных произведениях писатель рефлексирует над своей политической позицией и биографией. Далее речь пойдет о поздней прозе 70 «Я не хочу об этом знать»: механизмы памяти и забвения Л. Арагона - романах «Гибель всерьез» (1965), «Бланш, или Забвение» (1967). В романе «Бланш, или Забвение» рассказчик, лингвист Геффье, пытается воссоздать в своей памяти образ жены Бланш, с которой он давно расстался. Этот роман, как следует из его названия, о забвении, но также о памяти и самокритике. В докладе на конференции, посвященной роли 1956 г. в жизни и творчестве Л. Арагона, Марис Вассевь-ер (Maryse Vasseviere) показала, как в этом романе посредством осмысления романа «Гиперион, или Отшельник в Греции» (1799) немецкого писателя И.Х. Гёльдерлина Л. Арагон описывает свое состояние в 1956 г., на волне известий о советском вторжении в Венгрию и разоблачении культа личности Н.С. Хрущевым (Vasseviere 1992). Действительно, в романе есть ключевой фрагмент, в котором Г еффье ведет воображаемый диалог с Гюставом Флобером и спрашивает его: «Вы помните 56 год?» (Aragon 1967: 434). Затем Геффье продолжает: «Это был год, когда я по-настоящему прочитал “Гипериона”» (434), - и цитирует письмо Гипериона женщине, которую он любит (Диотиме). У И.Х. Гёльдерлина Гиперион отправляется освобождать Грецию от турков, но вскоре обнаруживает, что эти «освободители», к которым он присоединился, не кто иные, как бандиты, и в конце концов он разочаровывается в своих иллюзиях. Гипериону, безусловно, удается освободить оккупированный турками греческий город Мистра, но как только город взят, его разграбляет недисциплинированное войско. В этом письме Гипериона Диотиме, цитируемом Л. Арагоном в романе «Бланш, или Забвение», Гиперион с отчаянием произносит фразу, знаменующую конец утопии: «Es ist aus, Diotima!» («Все кончено, Диоти-ма!»). У Л. Арагона сразу после процитированного письма Геффье признает: «Все письмо проникнуто той горечью, которая была моей (нашей) в том году. но Гёльдерлин говорил за меня, я понимал, ах, как я понимал это горе и этот позор!» (434). В этой метафоре варваров, которые освобождают Мистру и хотят осчастливить ее жителей вопреки их собственному желанию, нельзя не увидеть образ советских войск, которые входят в Будапешт и подавляют восстание во имя свободы народов. Л. Арагон признается в том, что все эти годы, прошедшие с 1956 г., «[д]есять лет, в течение которых, чтобы выжить, [ему] приходилось без конца забывать то, что не забывается» (434). После интертекстуального прочтения романа «Бланш, или Забвение» становится ясно, что И.Х. Гёльдерлин позволяет Л. Арагону выразить «это горе и этот позор» 1956 г. Если вернуться на триста страниц назад, можно лучше понять пятую главу романа, в которой Геффье рассказывает о годах своей молодости. В последнем абзаце этой главы он восклицает: «А вдруг, вдруг я вспомню? Дай Бог человеку не забыть, что он должен забывать! Насту-71 Александра Сергеевна Виноградова пает время в жизни, когда человек живет только забвением. Я тогда до него еще не дошел - не дошел даже до 37 года. Я еще не прочитал “Гипериона”, ужасного письма: Es ist aus, Diotima» (Aragon 1967: 95). Эта фраза очень точно обозначает механизм вытеснения, проанализированный Фрейдом как невозможное забывание. Описывая пока только свои ранние годы, Геффье понимает, что ему еще предстоит вспомнить и Большой террор 1937 г., и события 1956 г., пусть он и пытался усердно их забыть. Итак, в автобиографическом романе «Бланш, или Забвение» в образе главного героя предстает сам автор - интеллектуал-коммунист, желающий, но не способный оставить позади и предать забвению травму разочарования в коммунистических идеалах. Почему у него не получалось забыть? На этот вопрос ответ стоит искать уже в другом романе Л. Арагона. В романе «Гибель всерьез» основной сюжет разворачивается вокруг персонажа Альфреда (альтер-эго автора), влюбленного в Фужер и завидующего Антуану, который в некотором смысле является его двойником. Роман рассказывает об убийстве Антуана Альфредом. В одном отрывке романа Альфред вспоминает Конгресс народов в защиту мира, проходивший в Вене в декабре 1952 г., который он безуспешно пытался забыть. (Именно там, в Вене Л. Арагон узнал о казни одиннадцати видных деятелей компартии Чехословакии на показательном Процессе Сланского, который проходил в Праге в ноябре того же года.) В «Гибели всерьез» можно найти определение забвения, данное Л. Арагоном: «Я что-то убил в себе и стыдливо называю убийство забытьем. Беда невелика, если загубишь что-нибудь пустячное, вроде спички, которую чиркнешь от нечего делать. Но если задета живая плоть души... проиграна ставка всей судьбы? В таком случае забыть - все равно что выбросить цветы из вазы... Вернувшись к жизни, стараешься выстроить весь мир заново, обойдясь без того, что кануло в забвение. На этом месте образуется рубец. А поскольку не знаешь, что именно подверглось ампутации: рука, нога, один мизинец или кошелек, - то ничего и не болит. Но иногда, при резких изменениях погоды, рубец вдруг начинает ныть. Рубец от чего?» (Арагон 1998: 203). Получается, что для Л. Арагона забвение (или, правильнее сказать, «вытеснение», кажется, что этот термин лучше определяет то, что описывает Л. Арагон, ведь на самом деле у него не получается забыть) перестает выполнять свою восстановительную, терапевтическую функцию, потому что на месте раны остается шрам. Что же делать писателю, когда он, с одной стороны, не может забыть боль, а с другой - даже если и забывает, то все равно чувствует шрам? Вместо того чтобы целенаправленно переносить воспоминания из сознания в бессознательное, остается лишь восстановить память об этих ранах. Но сам факт восстановления памяти не избавляет полностью от боли. 72 «Я не хочу об этом знать»: механизмы памяти и забвения Итак, Л. Арагон критически оглядывается на свое прошлое не для того, чтобы признать свою вину, ошибки или оправдать себя, а для того, чтобы ужиться с воспоминаниями, которые сначала были вытеснены интеллектуалом-коммунистом, а потом вновь найдены писателем в его автобиографических сочинениях. У Л. Арагона самокритика осуществляется посредством написания и больше похожа на «психоанализ через книги» (Vasseviere 1992: 283), чем на признание или исповедь. Замаскированная самокритика позволяет Л. Арагону освободить память от травм прошлого. Под данным углом зрения самокритика, которая была обвинительной институциональной практикой для любого коммуниста, становится освободительной литературной практикой для бывшего коммуниста, который оказывается один на один с памятью, сначала вытесненной, а затем восстановленной. Заключение Ключом к пониманию эмоционального и интеллектуального содержания «вытеснения» у бывших французских коммунистов является, с нашей точки зрения, автобиография «Париж-Монпелье: ФКП-ОСП (1945-1963)», которую Э. Ле Руа Ладюри опубликовал в 1982 г. Именно оттуда взята фраза, которую мы вынесли в заголовок этой статьи, -«Я не хочу об этом знать». В 1949 г., когда в Китае коммунисты пришли к власти, Э. Ле Руа Ладюри вступил в ФКП, а в 1956 г. сам вышел из нее. Он так вспоминает об этих решениях: «Внезапно я “забыл” ужасы сталинизма, о которых, тем не менее, знал: я с одобрением смотрел “Грязными руками”, одну из лучших пьес Сартра, которую больше не играют; я читал книги Суварина и Троцкого в отцовской библиотеке. Они стали для меня мертвой буквой. Я менял свою жизненную стратегию, поэтому и погрузил в сон определенные элементы своих знаний. Они оставались готовыми, по команде, проснуться. Старшие товарищи мне говорили... что они так же хорошо знали темну
Ключевые слова
Французская коммунистическая партия,
экс-коммунисты,
коммунизм,
самокритика,
забвение,
память,
автобиографические сочинения,
французская литератураАвторы
| Виноградова Александра Сергеевна | Университет Сорбонна | кандидат физико-математических наук, аспирантка факультета гуманитарных наук, Центр изучения французского языка и литературы | vinogradova-as@mail.ru |
Всего: 1
Ссылки
Vassevière M. La place de 1956 dans Blanche ou l’Oubli : construction romanesque d’une autocritique [The place of 1956 in “Blanche or Oblivion”: a novel construction of a selfcriticism] // Aragon 1956 : Actes du colloque d’Aix-en-Provence, septembre 1991 [Aragon 1956: Proceedings of the Aix-en-Provence conference, September 1991] / S. Ravis (éd.). Aix-en-Provence: PU Provence, 1992. P. 283-297.
Wurmser A. Fidèlement vôtre [Yours faithfully]. Paris: B. Grasset, 1979.
Tillon C. On chantait rouge [We sang red]. Paris: Robert Laffont, 1977.
Unfried B. «Ich bekenne». Katholische Beichte und sowjetische Selbstkritik [“I confess”. Catholic confession and Soviet self-criticism]. Frankfurt/Main-New York: Campus Verlag, 2006.
Roy C. Moi je [Me]. Paris: Gallimard, 1969.
Roy C. Nous [We]. Paris: Gallimard, 1972.
Roy C. Somme toute [All in all]. Paris: Gallimard, 1976.
Roy C. Les Chercheurs de dieux. Croyance et politique [Seekers of gods. Belief and politics]. Paris: Gallimard, 1981.
Rony J. Trente ans de parti [Thirty years of the party]. Paris: C. Bourgois, 1978.
Rousso H. Le Syndrome de Vichy: de 1944 à nos jours [Vichy syndrome: from 1944 to the present day]. Paris: Seuil, 1987.
Morin E. Mes démons [My demons]. Paris: Éditions Stock, 1994.
Morin E. Autocritique [Self-criticism]. Paris: Seuil, 2012.
Pannequin R. Adieu, camarades [Farewell, comrades]: 2 vol. Paris: Le Sagittaire, 1977.
Robrieux P. Notre génération communiste: 1953-1968 [Our communist generation: 1953-1968]. Paris: Robert Laffont, 1977.
Lecoeur A. L’Autocritique attendue [The expected self-criticism]. Paris: Girault, 1955.
Marcenac J. Je n’ai pas perdu mon temps [I didn’t waste my time]. Paris: Temps actuels, 1982.
Midol L. La voie que j’ai suivie [The path that I have followed]. Paris: Éditions sociales, 1973.
Le Roy Ladurie E. Paris-Montpellier: P.C.-P.S.U., 1945-1963 [Paris-Montpellier: C.P.-U.S.P., 1945-1963]. Paris: Gallimard, 1982.
Le Sujet communiste: identités militantes et laboratoires du « moi » [The communist subject: militant identities and laboratories of the “self”] / B. Pudal, C. Pennetier (dir.). Rennes: PU Rennes, 2014.
Lavigne R. Je suis un communiste heureux [I am a happy communist]. Paris: La Table ronde, 1981.
Jérôme J. La Part des hommes: souvenirs d’un témoin [The Men’s Share: memories of a witness]. Paris: Acropole, 1983.
Kriegel A. Ce que j’ai cru comprendre [What I thought I understood]. Paris: Robert Laffont, 1991.
Jalée P. L’Ancre dans l’avenir [Anchor in the future]. Paris: Éditions Karthala, 1981.
Jeannelle J.-L. Écrire ses mémoires au XXe siècle: déclin et renouveau [Writing memoris in the 20th century: decline and renewal]. Paris: Gallimard, 2008.
Garaudy R. Mon tour du siècle en solitaire [My solo turn of the century]. Paris: Robert Laffont, 1989.
Hervé P. Ce que je crois [What I believe]. Paris: B. Grasset, 1958.
Duclos J. Mémoires [Memoirs]: 7 vol. Paris: Fayard, 1968-1973.
Duvignaud J. Le ça perché [A perched]. Paris: Éditions Stock, 1976.
Figuères L. Jeunesse militante [Mobilizing youth]. Paris: Éditions sociales, 1971.
Desanti D. Les Staliniens: une expérience politique 1944/1956 [The Stalinists: a political experience 1944/1956]. Paris: Fayard, 1975.
Debray R. Loués soient nos seigneurs: une éducation politique [Praised be our lords: a political education]. Paris: Gallimard, 1996.
Debray R. Par amour de l’art: une éducation intellectuelle [For the love of art: an intellectual education]. Paris: Gallimard, 1998.
Daix P. J’ai cru au matin [I believed in the morning]. Paris: Robert Laffont, 1976.
Debray R. Les Masques: une éducation amoureuse [The Masks: a love education]. Paris: Gallimard, 1988.
Bonte F. De l’ombre à la lumière [From the shadow to the light]. Paris: Éditions sociales, 1965.
Cogniot G. Parti pris [Bias]: 2 vol. Paris: Éditions sociales, 1976-1978.
Connerton P. Seven types of forgetting // Memory Studies. 2008. № 1. P. 59-71.
Belloin G. Nos rêves, camarades [Our dreams, comrades]. Paris: Seuil, 1979.
Bonte F. Chemin de l’honneur [Honor Path]. Paris: Éditions Hier et aujourd’hui, 1949.
Barel V. Cinquante années de luttes [Fifty years of struggles]. Paris: Éditions sociales, 1967.
Aragon L. Préface [Preface] // Kundera M. La Plaisanterie [The Joke]. Paris: Gallimard, 1980. P. 7-11.
Autobiographies, autocritiques, aveux dans le monde communiste [Autobiographies, selfcriticisms, confessions in the communist world] / C. Pennetier, B. Pudal (dir.). Paris: Belin, 2002.
Aragon L. Blanche ou l’Oubli [Blanche or Oblivion]. Paris: Gallimard, 1967.
Хархордин О.В. Обличать и лицемерить: генеалогия российской личности. СПб.: Изд-во ЕУСПб, 2002.
Фрейд З. Основные психологические теории в психоанализе. Очерк истории психоанализа. СПб.: Алетейя, 1999.
Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. М.: Новое изд-во, 2007.
Торез М. Сын народа. М.: Изд-во иностр. лит., 1950.
Сафронова Ю.А. Историческая память: введение: учеб. пособие. СПб.: Изд-во ЕУСПб, 2019.
Рикёр П. Память, история, забвение. М.: Изд-во гуманит. лит., 2004.
Сафронова Ю.А. Memory studies: эволюция, проблематика и институциональное развитие // Методологические вопросы изучения политики памяти: сб. научн. тр. / отв. ред. А.И. Миллер, Д.В. Ефременко. М.-СПб: Нестор-История, 2018. С. 11-26.
Ренан Э. Что такое нация. СПб.: Изд. В. Бермана и С. Войтинского, 1886.
Подорога В.А. Память и забвение (Т.В. Адорно и время «после Освенцима») // НЛО. 2012. № 4. С. 109-129.
Нора П., Озуф М., Де Пюимеж Ж., Винок М. Франция-память. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 1999.
Ле Гофф Ж. История и память. М.: РОССПЭН, 2013.
Нерар Ф.-К. Пять процентов правды. Разоблачение и доносительство в сталинском СССР (1928-1941). М.: РОССПЭН, 2011.
Жане П. Психический автоматизм: экспериментальное исследование низших форм психической деятельности человека. СПб.: Наука, 2009.
Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М.: Канон, 1995.
Арагон Л. Неоконченный роман. М.: Изд-во иностр. лит., 1960.
Арагон Л. Гибель всерьез. М.: Вагриус, 1998.
Ассман А. Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика. М.: НЛО, 2014.
Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М.: Кучково поле, 2016.
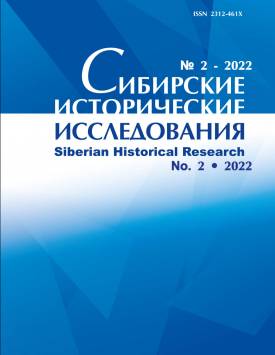

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью