Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
Russian Bath as the Only Constant of All Russian Life.pdf Впервые о фундаментальной работе профессора истории и славяноведения в Университете Брауна Итана Поллока о банях я случайно узнала в ходе плотного сотрудничества с корреспондентом австралийского отделения BBC Татьяной Леонов, которая делала большую публикацию о русской банной традиции для австралийской аудитории летом 2020 г. (Leonov 2020). Именно эта работа вдохновила Татьяну написать на далеком континенте о «специфическом русском СПА». Первоначальная английская версия рецензируемой монографии вышла в издательстве Oxford University Press, на сайте которого сообщается, что Поллок является «автором единственной англоязычной книги по истории бань». В целом так оно и есть, более того, столь фундаментальной истории русской бани от Геродота до «братков» из 1990-х, с упоминанием большого количества интересных фактов, воспоминаний, анекдотов, художественных зарисовок и т.п., пожалуй, нет и на русском языке. Это является весьма досадным фактом как для российских историков, так и антропологов и этнологов. Отечественные исследователи писали о банной культуре и телесных практиках достаточно много, но чаще всего отрывочно и в связи с конкретными сюжетами (Пашкова 2015; Васеха, Фурсова 2018). Конечно же, о роли и функциях русской традиционной бани (в основном «домовой») очень много написано этнографами в связи с ее существенной ролью и разносторонними функциями в традиционной культуре русского народа (Никонова, Кандрина 2003; Баня и печь... 2014). Есть и весьма любопытные наблюдения, и размышления зарубежных специалистов о русской банной традиции, особенно мне импонирует неожиданный взгляд «со стороны» американской исследовательницы Нэнси Конди, которая видит в бане олицетворение материнства (Конди 1997): для нее парная предстает в образе материнской утробы, в которой парящиеся мужчины восстанавливаются и как бы заново рождаются. В отличие от художественных образов и метафор Конди, Поллок пишет о русской бане весьма конкретно, анализируя и сопоставляя исторические факты. Будучи специалистом в области российской истории «сталинского» периода и первых лет холодной войны, Поллоку удалось взглянуть на историю России с другой, гораздо менее официальной и политически ангажированной стороны - с позиции историка повседневности. Впрочем, нельзя недооценивать публицистические, но выполненные по правилам исторического исследования работы журналиста Анатолия Захаровича Рубинова (Рубинов 1990, 1991, 2006), писателя Игоря Алексеевича Богданова (Богданов 2000), банного энтузиаста Игоря Исаковича Гольдина (Гольдин 2010, 2012), проделавших серьезные историкокраеведческие работы в области изучения русской бани. В отличие от профессиональных историков, чаще всего действовавших в русле отечественной научной традиции, т.е. осторожно работавших в опреде-229 Васеха М.В. Русская баня как единственная константа ленных временных и территориальных рамках, а также с определенными сюжетами, Рубинов, Захаров и Гольдин смотрели на тему бань более смело и широко. Они вписывали историю русской банной традиции в общий контекст социальной жизни России, возможно, где-то закрывая глаза на верификацию исторических фактов. Тем не менее многие архивные материалы, в том числе старинные фотографии и гравюры, были уже опубликованы именно этими авторами. Их упоминает и Поллок, однако часто он ссылается на уже обнародованный ими материал, минуя их работы, из-за чего у осведомленного читателя может возникнуть ощущение, что он приписывает себе их заслуги или по крайней мере не отдает им должное. Безусловно, столь масштабную по хронологическим рамкам работу тяжело осуществить самостоятельно, поэтому многие главы книги -очень удачная компиляция материалов и фактов, обнаруженных предшественниками, объединенных авторской концепцией Поллока - показать историю России через призму такого объекта повседневной жизни, как баня. Невозможно отрицать, что заслугой автора является весьма удачное объединение мыслей, идей и материалов российских исследователей бани и публицистов: текст Поллока написан легким языком и издан в привлекательном формате качественной научно-популярной литературы. Я полагаю, что отечественные научные тексты про баню, разбросанные по журналам и часто сложные для восприятия широкой аудиторией, а также публицистические очерки, издававшиеся небольшими тиражами, были не совсем доступны массовому российскому читателю. Выход же книги о русской бане, написанной американским профессором, вызвал определенный интерес в среде читающей интеллектуальной аудитории России. Например, такие отзывы можно встретить в книжных обзорах: «Замечательная история: американский профессор, много лет проживший в России, написал книгу о русской бане. Поллок обнаруживает “банные мотивы” в русской классике (знаменитый парадокс Достоевского о том, что вечность - это “банька с пауками”), но больше всего восхищают его исторические и архивные изыскания. Многое из того, о чем сообщает Поллок, я знать не знал...» (Толстов 2021). В книжном обзоре газеты Metro мы также читаем: «Удивительно, но самую содержательную книгу о русской бане (беглое “гугление” показывает, что в основном до сих пор издавали литературу утилитарную, а не социокультурную) написал иностранец, профессор русской истории из американского университета. И не просто как сборник исторических фактов и баек, сведенных в хронологию (вон, смотрите, эти странные русские с их borscht и pirozhki), а как подводку под русский национальный характер. Вряд ли вы когда-то думали о деревянном домике на даче, шайке и прилипших березовых листьях именно в таком 230 Рецензии ключе» (Тарасенко 2021). Вот так получилось, что американец открыл для нас свою же культуру. К сожалению, большинство интеллектуальных платформ (например, «Горький», «Полит.ру», «Афиша Daily», «N + 1»), где можно было бы ожидать обстоятельные рецензии профессиональных критиков, ограничились публикацией фрагментов монографии. Зато мы имеем возможность свободно ознакомиться с мнением рядовых читателей, оставивших свои впечатления на страницах книжных магазинов и порталов для книгочеев, и они, пожалуй, наиболее интересны нам. Как ни странно, среди откликов от так называемого массового читателя большинство отзывов отрицательные, многие отмечают превалирование «негативной» информации о состоянии этой русской традиции в различные исторические периоды (Рецензии на книгу). Например, покупатель интернет-магазина «Лабиринт» П.В. написал: «Уточню сразу, мне 67 лет, и я помню и захватил добрую половину хронологии содержания объема книги. Короче, могу считать себя спецом с некоторыми оговорками. Так вот, 2/3 книги полный необъективный навет. Сверх негативного отношения к русскому и советскому образу. Полное непонимание. Не знаю, кто эти русские люди, которым благодарность в конце книги, но они, похоже, сами видят все в сплошном черном цвете.». Отзыв из этого же интернет-магазина от читателя В.Е.: «К сожалению, у автора очень много негатива про русскую баню. За всю историю банного дела русскому человеку негде было попариться!? Ни при Петре, ни при Сталине. А мы ходили, ходим и будем ходить в баню!», остальные отзывы в целом по своему посылу очень похожи на эти. Отчего любители бани, бросившиеся читать Поллока, так жестко отреагировали на содержание книги? Я могу предположить, что помимо общей усталости общества от присвоения исключительно бинарной эмоциональной окраски советскому прошлому, баня, банный ритуал и приписываемая ей польза для многих соотечественников во многом являются неприкосновенной ценностью - если не пресловутой «скрепой» русской культуры, то большой личной отдушиной, на которую покусился «залетный» дилетант и «осквернил» почти святое, не разобравшись в самой сути дела. Предлагаю пройтись по главам и уточнить, что именно могло так возмутить ценителей этой русской традиции? Первые две главы книги - экскурс в глубины истории России через банную традицию - «Повесть временных лет», упоминания бани у Геродота, Ибн Руста, Джайлса Флетчера, Адама Олеария, Жана Шаппа и прочих «иностранцев», писавших об этом обычае. В целом материалы в этих главах историкам бань хорошо известны и много раз публиковались. Сам Поллок акцентуирует несколько тем, например приписываемую иностранцами характеристику «варварства» народу, имевшему такую традицию; видение в совместном банном мытье мужчин и жен-231 Васеха М.В. Русская баня как единственная константа щин «русской наклонности к сексуальной неразборчивости»; а также некоторые допущения, что «наверное, в русских есть нечто особенное, раз бани делают их здоровыми» (с. 47). Петровские времена рассматриваются достаточно углубленно, как период, когда баня могла бы погибнуть перед желанием первого русского императора модернизировать русскую культуру: «...он вполне мог бы объявить торговые бани вне закона... Однако баня не принадлежала к числу тех исконно русских традиций, которые Пётр или высмеивал, или пытался модернизировать» (с. 55). Более того, в градостроительный проект своей новой столицы Петр I вписал торговые бани. Правление Екатерины II также рассматривается Поллоком как новый виток развития бань в связи с рекомендациями придворного деятеля Просвещения Антонио Санчеса. С его легкой руки посещение бани было закреплено законодательно исключительно «для медицинской пользы» и в чем-то стало важным инструментом современного государства. Для той части русской аристократии, которая под влиянием своих западных современников перестала посещать бани, труды Санчеса стали путеводной звездой, вернувшей в моду старинный русский обычай. Пожалуй, это можно считать первым случаем, когда иностранец «переоткрыл» русскую банную культурную традицию для самих же русских. В третьей главе монографии (а их всего десять) автор уже переносится в XIX в. Поллок обращает внимание на то, что несмотря на усиление движения гигиенистов по всей Европе, в России богатая банная культура вплоть до конца XIX в. никоим образом не поддерживалась со стороны медицинского сообщества и государства. Торговые бани продолжали содержаться их владельцами из рук вон плохо. Между тем к середине века русские бани появились в Берлине, Лондоне, Париже и Нью-Йорке (с. 98). Пожалуй, здесь автор наконец-то начинает вводить в оборот некоторые новые, по крайней мере, не знакомые рецензенту материалы, например искрометные впечатления Марка Твена, посетившего в Нью-Йорке «ужасную русскую баню» (тем не менее, отметившего ее благотворное влияние на ментальное здоровье). Или информацию о возрождении общественных купален по всей Западной Европе благодаря славе русских бань (после Наполеоновских войн начала формироваться положительная репутация русской бани как символа всего русского). Дошло до того, что в 1881 г. российские медики признали, что русскую баню лучше изучили за рубежом их европейские коллеги, чем они сами (с. 99). И такое положение дел сохранялось вплоть до конца XIX в. Законодательное закрепление обслуживания в банях по четырем разрядам в XIX в. позволило установить минимальную стоимость их посещения для самых необеспеченных слоев населения, и в то же время 232 Рецензии появились самые дорогие разряды - «семейные» или «номерные», с возникновением которых сильно возросла роль обслуживающего персонала, и банщиков в частности. В рецензируемой книге автор немало внимания уделяет появившимся сексуальным услугам, и в частности гомосексуальным, оказываемым в номерных (семейных) отделениях торговых бань. Автор отмечает, что в этот период усиливается дихотомия: представление о бане как о практически священном пространстве, и в то же время, месте греха и разврата. Могу предположить, что именно гомосексуальные сюжеты о растлении молодых крестьянских парней, поступающих на службу в банщики, ярко и выпукло представленные в книге, могли так не понравиться широкой российской читающей аудитории. В ходе моих собственных полевых исследований в московских общественных банях выяснилось, что, несмотря на «темную» сторону репутации бани (еще совсем недавние сюжеты «стрелок братков» и практически синонимия «бани»/«сауны» и «проституции» в 1990-е гг.) для абсолютного большинства россиян баня ассоциируется исключительно со светлыми эмоциями и мотивами: телесной чистоты, физического и ментального здоровья, «перерождения» после стрессовых ситуаций, легкого дружеского общения, преумножения красоты (Васеха 2015). Вероятно, яркие зарисовки «содомского разврата», преподносимые в монографии как часть банной повседневности XIX в., были восприняты российскими любителями бани как личное оскорбление и неуважение автора по отношению ко всей русской культуре. Достаточно сильными являются главы о советском периоде (как раз по которому Поллок является специалистом). Здесь видно, что автор действительно ориентируется в материале, наконец-то вводятся в оборот новые документы и сведения, а также появляются свежие авторские размышления о связи бани и истории России. Привлечены и советские агитплакаты, и карикатуры из сатирических журналов, и заметки, рассказы и фельетоны из публицистики, а также мемуары, воспоминания и дневники о бане советского периода. Советское время показано автором как очередной момент, когда древняя банная традиция могла быть уничтожена катком государственной машины, что и произошло в целом с так называемой традиционной русской культурой. Однако, вопреки опасениям, Поллок хорошо показал, как молодая советская власть взяла бани как одну из основ «чистоты» советского человека не только телесной, но и идеологической в ходе раннесоветской культурной революции. Несмотря на столь высокую отведенную баням роль, общественные бани находились в городах и поселках в очень плохом санитарном состоянии, здания ветшали, топились бани плохо и даже не каждый день. Вся эта ситуация заставила Ленина в 1919 г. произнести с трибуны знаменитую фразу: «Или вши победят социализм, или социализм победит вшей» (с. 201), собственно вокруг нее Поллок и строит 233 Васеха М.В. Русская баня как единственная константа свой рассказ о советской банной истории. Поллок не обошел стороной сюжеты создания мобильных военных бань во время Первой мировой войны и Великой Отечественной, воспоминания о работе бань в блокадном Ленинграде; много внимания уделил воспоминаниям о бане как месте дополнительных издевательств в тюрьмах и советских концлагерях. Следует, однако, заметить, что автор практически ничего не рассказывает о роли и функциях домовых бань, традиции парения в которых отличалась не только от городских общественных, но и разнились в различных регионах России. Более того, многие специалисты уверены, что домовая деревенская баня и торговая городская имеют совершенно разную историю и природу происхождения (Баня и печь... 2004). Абсолютное большинство этнографических и фольклорных работ посвящены именно деревенской бане, которая была далеко не только местом утилитарной гигиены тела, но и особым сакральным пространством для проведения множества обрядов и ритуалов, занимающих важное место в традиционной культуре русского народа. Поллоком совершенно не дается разъяснений о том, что домовая русская баня - нечто совершенно иное по сравнению с городскими торговыми банями, о которых в основном автор и пишет. На мой взгляд, это главный недостаток книги, в чем-то даже введение в заблуждение непосвященных. У не погруженного в проблему читателя может создаться ошибочное представление о древней русской банной традиции - вроде бы один сплошной негатив: бани грязные, плохо протапливаемые, сплошь гомосексуальные оргии и проституция, банная коррупция, нехватка шаек и посадочных мест - так за что же эти странные русские так любят и почему гордятся своими банями? Пожалуй, ответ на этот вопрос автор мог бы дать, используй он антропологический подход, разнообразные методы включенного наблюдения и включенного действия (в целом у автора был такой опыт, но, судя по всему, весьма ограниченный походами в компании русских друзей, плотное присутствие которых, скорее всего, делало посещение парных достаточно однообразным и секуляризированным), однако тексты, исторические документы, художественные произведения, фильмы и передачи, материалы публицистики для него, судя по всему, важнее, чем личные наблюдения, замеченные нюансы, неторопливые душевные разговоры после парной и интервью (пусть даже не формализованные) с любителями бани. О своих ощущениях и впечатлениях он упоминает лишь в самом начале исследования в паре страниц Пролога и в самом конце книги в Эпилоге, где описывает абсурдистское видение в парной, когда вокруг него придаются банным удовольствиям исторические персонажи его монографии. Таким образом, Поллоку, безусловно, удалось связать тему русской бани и истории страны, автор создал яркий, хорошо читаемый текст с 234 Рецензии большим количеством запоминающихся, неоднозначных и даже скандальных сюжетов, что сделало его работу интересной и продаваемой для не-российского читателя. Однако он упустил главное - так и не раскрыл, почему русский человек продолжает любить баню и ходить в нее.
Баня и печь в русской народной традиции / отв. ред. В.А. Липинская. М.: INTRADA, 2004.
Богданов И.А. Три века петербургской бани. СПб.: Искусство-СПБ, 2000.
Васеха М.В. Современные общественные московские бани как городской социокультурный феномен // Традиционная культура. 2015. № 1. С. 149-160.
Васеха М.В., Фурсова Е.Ф. Русская баня в обрядовой жизни: по этнографическим материалам рукописи «О ветлужских банях, печах и о мытье в них» Д.А. Маркова // Баландинские чтения. 2018. Т. 13, № 1. С. 499-503.
Гольдин И.И. Русская баня в «шинели» (в армии, на флоте, в милиции (полиции), у пожарных, казаков и партизан). М.: Ассоциация «Культурно-спортивно-оздоровительные комплексы», 2010.
Гольдин И.И. Сандуны: бани и музей Москвы. М.: Ассоциация «Культурно-спортивно-оздоровительные комплексы», 2012.
Конди Н. «Вторая мать», или Все бани - женские // Искусство кино. 1997. № 5. URL: https://old.kinoart.ru/archive/1997/05/n5-article22
Никонова Л.И., Кандрина И.А. Баня в системе жизнеобеспечения народов Поволжья и Приуралья. Саранск: Изд-во Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева, 2003.
Пашкова Т.В. Баня в лечебных обрядах карел // Традиционная культура. 2015. № 1 (57). С. 142-148.
Рубинов А.З. Сандуны. Книга о московских банях. М.: Московский рабочий, 1990.
Рубинов А.З. Интимная жизнь Москвы. М.: Экономика, 1991.
Рубинов А.З. История бани. М.: Новое литературное обозрение, 2006.
Рецензии на книгу «Когда б не баня, все бы мы пропали» Итан Поллок // Лабиринт. б.д. URL: https://www.labirint.ru/reviews/goods/808105/ (дата обращения: 25.01.2022).
Тарасенко С. Книги недели: баня, Дальний Восток и финал трилогии Быкова // Metro. 07.06.2021. URL: https://www.metronews.ru/novosti/russia/reviews/knigi-nedeli-banyadalniy-vostok-i-final-trilogii-bykova-1797605/
Толстов В. Классные книги о том, чем занимаются люди: от бани до троллинга // Байкалинформ. 08.08.2021. URL: https://baikalinform.ru/chitatelb-tolstov/chitatelb-tolstovklassnye-knigi-o-tom-chem-zanimayutsya-lyudi-ot-bani-do-trollinga
Leonov T. The significance of the Russian ‘banya’ // BBC. 05.09.2020. URL: https://www.bbc.com/travel/article/20200803-russias-beloved-healing-ritual
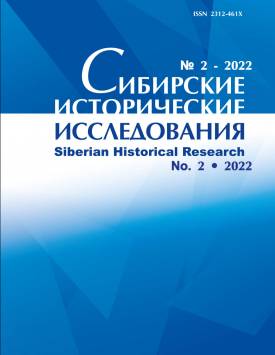

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью