С учетом правовых позиций ЕСПЧ и Конституционного Суда РФ анализируются обоснованность отнесения законом следователя к стороне обвинения во взаимосвязи с содержанием его процессуальной самостоятельности. Констатируется недостаточность правомочий у следователя для осуществления эффективного доказывания и своевременного принятия процессуальных решений по уголовному делу. Для преодоления указанного вносятся предложения по оптимизации процессуального статуса следователя.
The Investigator as a Subject of Proving and Making Procedural Decisions in Criminal Proceedings.pdf Дискуссионность вопроса о положении следователя в российском уголовном судопроизводстве обусловливается тем обстоятельством, что ни в Концепции судебной реформы в РСФСР 1991 г. (далее -Концепция), ни в проектах Уголовно-процессуального кодекса РФ в конкретной форме не отражалась идея состязательности уголовного процесса и, следовательно, четко не было определено содержание его функционального построения. Последнее имеет важное значение для уточнения функционального назначения процессуальной деятельности следователя в процессе доказывания и принятия процессуальных решений. Одновременно следует принять во внимание тот факт, что российский уголовный процесс на протяжении многих веков характеризовался как инквизиционный со свойственными ему правилами доказывания и принятия процессуальных решений. Законодателем сущность состязательного уголовного судопроизводства отражена в ст. 15 УПК РФ, согласно которой в досудебном производстве выделяются две стороны - сторона обвинения и сторона защиты. Следователь отнесен к стороне обвинения (ч. 2 ст. 15, гл. 6 УПК РФ). В.В. Кальницкий и Т.И. Сальникова, размышляя о том, что «органы дознания и следствия отнесены к стороне обвинения, поэтому препятствий для продолжения ими обвинительной деятельности в суде нет» [1. С. 26], фактически констатируют направленность осуществляемой следователем уголовно-процессуальной деятельности - обвинительная. Между тем такое отнесение, на первый взгляд, не согласуется с назначением уголовного судопроизводства - ограждение личности от незаконного и необоснованного уголовного преследования (п. 2 ч. 1 ст. 6 УПК РФ). По мнению одних авторов, законодательное определение места следователя в системе участников уголовного судопроизводства как участника со стороны обвинения предопределяет обвинительный уклон при осуществлении им процессуальных действий и принятии процессуальных решений [2. С. 217]. Другие авторы, не придавая процессуального значения отнесению следователя к стороне обвинения, считают, что обвинительный уклон доказательственная деятельность следователя приобретает «в ходе формирования уголовного преследования лиц, причастных к совершению преступления» [3. С. 13]. Однако данная точка зрения не может расцениваться как верная, поскольку следователь в процессуальной деятельности должен руководствоваться нормами, закрепленными ч. 1 ст. 73 УПК РФ. Обозначенные нормы возлагают на следователя процессуальную обязанность устанавливать обстоятельства, свидетельствующие о защитной направленности рассматриваемой деятельности данного участника уголовного судопроизводства. Среди таких обстоятельств: обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; обстоятельства, смягчающие наказание; обстоятельства, влекущие освобождение от уголовной ответственности. Указанные процессуальные обязанности следователя нацелены на нивелирование обвинительного уклона в его процессуальной деятельности, на обеспечение всесторонности и полноты установления обстоятельств по уголовному делу, объективности их исследования. Двойственность процессуального положения рассматриваемого субъекта в состязательном уголовном процессе затрудняет однозначное определение роли следователя в уголовном судопроизводстве, основу которого составляет уголовно-процессуальное доказывание, порождает противоречивые суждения о его роли в уголовном процессе. Обращаясь к ретроспективе обозначенной проблемы, подчеркнем, что она не нашла своего решения в XX в. М.С. Строгович полагал, что основной обязанностью следователя является изобличение лица, привлеченного к уголовной ответственности в качестве обвиняемого в совершении преступления, доказывание его виновности и обеспечение применения к нему уголовного наказания [4. С. 51]. Р.Д. Рахунов [5. С. 24-25], А.Я. Вышинский [6. С. 13] же считали недопустимым отнесение следователя к стороне обвинения. Схожую точку зрения высказывали И. Л. Петрухин, Э.Ф. Куцова [7. С. 83], полагая, что следователь обязан осуществлять полное, всестороннее, объективное исследование всех обстоятельств уголовного дела. Данная научная позиция нашла закрепление в уголовно-процессуальной норме (ст. 2 УПК РСФСР). Следует признать, что УПК РФ прямо не закрепляет указанную выше процессуальную обязанность следователя, что в определенной степени осложняет понимание функционального назначения процессуальный деятельности следователя, как было указано выше. Но, как справедливо утверждает профессор Л.А. Воскобитова, «умеющий читать и мыслить легко найдет в законе эти требования» [8. С. 456]. Они усматриваются из системного анализа предписаний ч. 1 ст. 73 УПКРФ, обязывающих следователя устанавливать обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния (п. 5), смягчающие наказание (п. 6), характеризующие личность подозреваемого, обвиняемого (п. 3) и др. Несмотря на существование в теории уголовно-процессуального права научных дискуссий о роли следователя в уголовном процессе, следует констатировать с точки зрения действующего правового регулирования, что следователь осуществляет процессуальные действия и принимает процессуальные решения, направленные как на обвинение, так и оправдание подозреваемого, обвиняемого. По данному вопросу выразил свою позицию Конституционный Суд РФ, который в своем постановлении от 29 июня 2004 г. № 13-П, исходя из предписаний ст. 2, 18, ч. 1 ст. 45 Конституции Российской Федерации, уточнил, что на следователя возлагается процессуальная обязанность получать доказательства не только обвинительные, но и оправдательные, подтверждающие невиновность лица в совершении вменяемого ему преступления (п. 4 Описательномотивировочной части Постановления). С учетом изложенного следует признать неудачной для обеспечения эффективного правоприменения юридическую конструкцию правового регулирования субъектного состава стороны обвинения, препятствующую единообразному пониманию роли следователя в состязательном уголовном процессе в целом и в уголовно-процессуальном доказывании в частности. Наряду с изложенным следует уточнить, что назначением уголовно-процессуальной деятельности следователя в современном уголовном процессе выступает верная реализация предписаний, содержащихся в уголовно-правовых нормах, в целях объективного, с соблюдением процессуальных гарантий прав подозреваемого, обвиняемого, разрешения уголовно-правового спора между личностью и государством по факту нарушения первым установленных государством запретов. Не менее важным является недопущение следователем злоупотребления правом - использование им дискреционного полномочия, которое формально не нарушает уголовнопроцессуальную норму, закрепляет указанное полномочие, но противоречит назначению этой нормы [9. С. 194]. Уголовно-процессуальная деятельность следователя должна обеспечивать не только защиту прав, законных интересов потерпевшего, но и неотвратимость привлечения к уголовной ответственности виновного. Указанное вместе с тем не исключает дифференцированной реализации норм уголовного закона, предусматривающей отказ от уголовного преследования невиновных. В современный период развития общественных отношений все более очевидным становится тот факт, что уголовно-процессуальную деятельность следователя следует расценивать как гарант от произвола государства при разрешении уголовно-правового конфликта, которому с большей долей вероятности может быть подвергнуто лицо, заподозренное в совершении преступления. Представленное назначение уголовно-процессуальной деятельности следователя определяет направленность ее «сердцевины», как утверждал профессор С.А. Шейфер, - осуществляемого им уголовно-процессуального доказывания. Согласно ст. 85 УПК РФ доказывание состоит в собирании, проверке, оценке доказательств по уголовному делу в целях установления фактических обстоятельств, имеющих отношение к нему. В научной литературе встречается мнение о том, что в процесс доказывания наряду с указанным входит и такой элемент, как использование доказательств [10. С. 75]. Собирание доказательств - это процессуальная деятельность следователя по обнаружению, закреплению и изъятию в установленном уголовно-процессуальным законом порядке и процессуальной форме следов преступления, сведений, имеющих отношение к уголовному делу. Основным способом собирания доказательств является производство следственных действий, предусмотренных гл. 24-27 УПК РФ. Вместе с тем уголовно-процессуальный закон допускает собирание доказательств посредствам производства иных процессуальных действий: истребование предметов, документов, проведение документальных проверок, ревизий и др. (ч. 1 ст. 144 УПК РФ), удовлетворение ходатайств подозреваемого, обвиняемого, их защитника, законного представителя, потерпевшего, его представителя, гражданского истца, гражданского ответчика об исследовании дополнительных вопросов в ходе судебной экспертизы (п. 4 ч. 1 ст. 198 УПК РФ), о приобщении к материалам уголовного дела предметов и документов, собранных ими (ч. 1, 2 ст. 119, п. 5 ч. 2 ст. 42, п. 5 ч. 4 ст. 47, п. 8 ч. 1 ст. 53 и др. УПК РФ), избрание мер пресечения, требующих согласия суда (ст. 106-108 УПК РФ). Профессор С.А. Шейфер также полагал, что «доказательства, согласно ч. 1 ст. 86 УПК РФ, могут быть получены в результате не только следственных, но и иных процессуальных действий» [11. С. 122]. В контексте указанного следует согласиться с О.И. Андреевой в том, что органам предварительного расследования в силу публичности уголовного судопроизводства обеспечивается прерогатива в уголовно-процессу-альном доказывании [12. С. 17]. Анализируя деятельность следователя по собиранию доказательств, следует акцентировать внимание на недопущение указанным субъектом нарушений требований уголовно-процессуального закона, закрепленных ст. 75 УПК РФ. Обратное влечет недопустимость полученных доказательств, которые не могут быть использованы для проверки других доказательств и не могут быть положены в основу итогового решения суда. В развитие указанного для оценки процессуальной деятельности следователя при собирании им доказательств научный интерес представляет мнение С.Н. Хорьякова [13. С. 106], уточняющего в данном аспекте формы проявления процессуальной самостоятельности рассматриваемого субъекта: 1) самостоятельно принимать решение о производстве следственного или иного процессуального действия, за исключением случаев, требующих судебного решения и согласия руководителя следственного органа; 2) самостоятельно устанавливать очередность следственных и иных процессуальных действий; 3) самостоятельно определять момент производства следственного и иного процессуального действия; 4) самостоятельно устанавливать круг участников следственного и иного процессуального действия; 5) самостоятельно определять тактические приемы производства следственного и иного процессуального действия; 6) самостоятельно определять сведения, полученные в ходе производства следственного и иного процессуального действия, подлежащие фиксации в протоколе. Развивая теоретические суждения о процессуальной самостоятельности следователя в контексте осуществляемого им уголовно-процессуального доказывания, необходимо подчеркнуть, что в соответствии с ч. 3 ст. 88 УПК РФ следователь наделяется правом самостоятельно признавать доказательства недопустимыми либо по собственной инициативе, либо по ходатайству подозреваемого, обвиняемого. Но, как верно утверждала Л.Т. Ульянова, такой порядок признания доказательства недопустимым является несовершенным, поскольку не только не предусматривает вынесения следователем соответствующего процессуального решения, но и свидетельствует о широких пределах собственного усмотрение следователя, который и нарушил закон [14. С. 40]. Схожая ситуация с разрешением ходатайства, характеризующаяся необоснованно широким усмотрением властных субъектов при принятии ими решения - судьями, которым подсудимым был заявлен отвод, стала предметом рассмотрения ЕСПЧ (постановление от 9 января 2018 г. «Ревтюк против России»). ЕСПЧ в таком порядке разрешения ходатайства усмотрел нарушение Конвенции о защите прав человека и основных свобод (п. 4 ст. 5). Учитывая, что правовые позиции ЕСПЧ являются составной частью правовой системы Российской Федерации (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ), включающей правовое регулирование уголовного судопроизводства, то необходимым представляется изменение указанного порядка подачи и разрешения ходатайства о признании доказательства недопустимым - через руководителя следственного органа, который и разрешает данное ходатайство. Это позволит не только исключить отдельные нарушения конвенциональных прав человека в сфере доказывания по уголовным делам, осуществляемого следователем, но и снизить число обращений невластных участников уголовного судопроизводства в суд в порядке, предусмотренном ст. 125 УПК РФ, в защиту своих прав и законных интересов. На протяжении последних пяти лет количество таких обращений остается стабильно высоким. Самостоятельным элементом процесса доказывания является проверка доказательств (ст. 87 УПКРФ). В теории уголовно-процессуального доказывания выделяются такие способы проверки доказательств, как сопоставление полученных доказательств между собой и исключение одного из них в случае несоответствия между собой, использование логических приемов, производство следственных и иных процессуальных действий и др. Следует подчеркнуть, что и при собирании доказательств, и в ходе их проверки особо проявляется ограничение процессуальной самостоятельности следователя, что продолжает оставаться актуальным предметом научных дискуссий как ученых, так и практиков (А.П. Гуляев, Б.Я. Гаврилов, С.Ф. Шумилин). Конституционный Суд РФ также подтвердил, что следователь обладает процессуальной самостоятельностью при определении хода расследования, принятии решений о производстве следственных и иных процессуальных действий. При этом Конституционный Суд РФ уточнил пределы такой самостоятельности следователя: если не требуется решения суда или согласия руководителя следственного органа (п. 16 Обзора практики Конституционного Суда Российской Федерации за первый квартал 2020 г., п. 5 Описательно-мотивировочной части Определения от 14 января 2002 г. № 4-О). Применительно к ограничению процессуальной самостоятельности следователя - необходимость получения решения суда - следует признать его обоснованность, поскольку судебное решение требуется в процессуальных ситуациях, сопряженных с ограничением конституционных прав граждан. Так, согласно ч. 2 ст. 29 УПК РФ только по решению суда допускается производство обыска, выемки в жилище, осмотр жилища в отсутствии согласия проживающих в нем лиц, осуществление контроля переговоров, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления. В ст. 106-108 УПК РФ закрепляется порядок избрания мер пресечения, применение которых влечет ограничение прав лица на свободу, личную неприкосновенность, нарушение личной и семейной тайны, частной собственности - с согласия суда. Гарантом соблюдения таких прав выступает Конституция РФ (ст. 23, 25, 35, 36). Их ценность для государства неоднократно подчеркивалась Верховным Судом РФ в соответствующих постановлениях Пленума (ППВС от 01.06.2017 № 19 «О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (ст. 165 УПК РФ)», от 19.12.2013 № 41 (ред. от 11.06.2020) «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий», от 15.11.2016 № 48 (ред. от 11.06.2020) «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» и др.). В частности, Верховный Суд РФ разъяснил правоприменителю, что право на свободу является основополагающим правом человека, а ограничения неотъемлемых прав и свобод человека допустимы лишь для защиты конституционно значимых ценностей при условии соответствия такого ограничения требованию справедливости. Схожую позицию в своих решениях высказали ЕСПЧ (постановления ЕСПЧ от 15.10.2015 «Белозоров против России и Украины», п. 101, 112, 113 - относительно права на свободу и личную неприкосновенность; от 07.05.2002 «Бурдов против России», п. 39-41 - о защите собственности и др.). Вместе с тем сложно согласиться с позицией российского законодателя и Конституционного Суда РФ о необходимости в других случаях ограничивать право следователя самостоятельно определять ход и содержание процесса доказывания и связанного с ним принятия процессуальных решений о производстве следственных и иных процессуальных действий. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 165 УПК РФ следователь в ходе собирания и проверки доказательств по уголовному делу не может осуществлять следственные действия, ограничивающие основополагающие права человека, без согласия руководителя следственного органа. Такое согласие требуется следователю при обращении в суд с целью избрания мер пресечения в виде залога (ч. 2 ст. 106 УПК РФ), запрета определенных действий (ч. 2 ст. 105.1 УПК РФ), домашнего ареста (ч. 3 ст. 107 УПК РФ), заключения под стражу (ч. 3 ст. 108 УПК РФ) для недопущения уничтожения подозреваемым, обвиняемым доказательств по уголовному делу, а также для получения новых доказательств в ходе судебного заседания по рассмотрению соответствующего ходатайства следователя (ч. 4, 6 ст. 108 УПК РФ). В этом случае следует констатировать рассогласованность в правовом положении следователя. С одной стороны, законодатель возлагает на него всю полноту процессуальной ответственности за качество расследования преступления, соблюдение законности и обеспечения разумного срока производства по уголовному делу. На данный факт в своем диссертационном исследовании указывает и С.В. Красильников [15]. С другой стороны, декларируя самостоятельность следователя при производстве по уголовному делу (п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ), законодатель лишает его права самостоятельно определять потребность в производстве конкретного следственного и иного процессуального действия, момент, когда такое действие целесообразно осуществлять. В конечном счете такие ограничения правомочий следователя негативно сказываются на возможности своевременного обнаружения и фиксации следователем следов преступления, не допуская их утрату, видоизменение и др., обеспечение полноты установления и всесторонности исследования фактических обстоятельств по уголовному делу. Необходимо подчеркнуть, что согласно Уставу уголовного судопроизводства (УУС) следователь не испытывал такой процессуальной «опеки» при принятии процессуальных решений. Статья 264 УУС устанавливала, что следователь самостоятельно принимает все меры для производства следствия, за исключением действий, влекущих ущемление основных прав человека. В последнем случае следователю необходимо было получить решение суда (например, для наложения запрета или ареста на имущество обвиняемого), предварительно не согласовывая свое обращение в суд с прокурором (ст. 268 УУС). Профессор П.А. Лупинская критически относилась к процессуальному руководству уголовно-процессуальной деятельности следователя со стороны руководителя следственного органа (ранее - начальника следственного отдела). П.А. Лупинская считала, что следователь способен самостоятельно принимать законные и целесообразные процессуальные решения, правильно определять оценочные понятия в уголовнопроцессуальном праве при формулировании указанных решений [16. С. 11, 19, 25; 17. С. 9-11]. Наряду с изложенным важным представляется акцентирование внимания на тот факт, что приведенные и другие законодательные установления (п. 3 ч. 2 ст. 38, ч. 2 ст. 106, ч. 3 ст. 108, ч. 2 ст. 185, ч. 6 ст. 220 и др. УПК РФ) не согласуются с положениями Концепции в части, касающейся роли руководителя следственного подразделения. Такая роль, как указано в данной Концепции, должна заключаться в организации деятельности подчиненных ему следователей, ресурсного и методического обеспечения досудебного производства, начальствующего над техническим персоналом и не имеющего право вмешаться в процессуальную деятельность следователя [18. С. 65-66, 91]. В развитие указанного уточним, что обязанности руководителя следственного органа должны ограничиваться заведением контрольного производства по уголовному делу, что обеспечивает соблюдение следователем законности и обоснованности расследования многоэпизодного уголовного дела, осуществлением контроля за своевременным направлением прокурору копии процессуальных документов и уведомлений в случаях, предусмотренных УПК РФ, заслушиванием подчиненных следователей о ходе расследования в целях обеспечения разумного срока предварительного следствия, обсуждением вопросов взаимодействия следователя с оперативным подразделением органа дознания для обеспечения сохранности имеющихся и получения новых доказательств по уголовному делу и др. Между тем участник уголовного процесса - начальник следственного отдела (в период действия УПК РСФСР 1960 г.), позже - начальник следственного органа не утратил своего процессуального положения. Тем самым, полагаем, нивелируется институт процессуальной самостоятельности следователя, который был заложен в российском уголовном процессе Уставом уголовного судопроизводства. В подтверждение указанного уместно привести точку зрения С.А. Табакова о том, что руководитель следственного органа способен на законном основании повлиять на любую ситуацию, возникающую в ходе предварительного следствия [19. С. 18], в том числе при установлении обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 73 УПК РФ. Процессуальным средством преодоления указанного влияния руководителя следственного органа можно рассматривать институт обжалования следователем указаний руководителя следственного органа, данных в письменной форме и являющихся обязательными для исполнения следователем (ч. 3 ст. 39 УПК РФ). Верной представляется позиция А.О. Бекетова о том, что реализация руководителем следственного органа широкого круга полномочий по всестороннему контролю за процессуальной деятельностью следователя в ряде случаев может затрагивать область внутреннего убеждения следователя, ведущего производство по уголовному делу, вызывать у последнего определенные возражения [20. С. 101]. Однако такой процессуальный порядок обжалования не приостанавливает их исполнения за некоторым исключением (например, указания руководителя следственного органа, касающиеся избрания меры пресечения, квалификации преступления), что снижает потенциал указанного института. А.Н. Огородов также подчеркнул неэффективность обжалования следователем решений руководителя следственного органа об отказе в даче согласия на возбуждение перед судом ходатайства о производстве процессуального действия или об избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого меры процессуального принуждения. В качестве обоснования указанный автор приводит такой аргумент, как чрезмерная длительность принятия вышестоящим руководителем следственного органа решения по жалобе следователя, приводящая к наступлению негативных последствий (сокрытие лица из жилища, где требовалось проведение обыска и др.) [21. С. 178]. Указанное позволяет резюмировать: следователь не имеет процессуальной возможности отстаивать свои внутренние убеждения. Следует подчеркнуть, что П.А Лупинская придавала особое значение формированию внутреннего убеждения правоприменителя. В частности, раскрывая механизм принятия процессуального решения, П.А. Лупинская делала акцент на социально-психологические и личностные факторы [22. С. 20-21], обусловливающие процесс формирования и содержание рассматриваемого убеждения, в том числе следователя. Особенно негативное последствие отмеченного проявляется при оценке следователем доказательств по уголовному делу. Оценка доказательств - это мыслительная деятельность следователя на предмет установления относимости, достоверности, допустимости и достаточности доказательств по уголовному делу, осуществляемая им на основе закона и внутреннего убеждения, как гласят предписания ст. 17, 88 УПК РФ. Поскольку следователю достаточно часто приходится согласовывать выносимые им постановления с руководителем следственного органа, то возникает сомнение в том, что мнение руководителя следственного органа о конкретном процессуальном решении следователя не отразится на внутреннем убеждении следователя. Такая практика утверждения постановлений и согласований решений следователя свидетельствует о принижении значения внутреннего убеждения следователя. Изложенное свидетельствует о необходимости придания в законодательном порядке следователю большей самостоятельности как в процессе доказывания, так и при принятии им процессуальных решений. Для этого следует исключить процессуальную обязанность следователя согласовывать с руководителем следственного органа свое решение о производстве следственных действий, требующих согласия суда. Институт согласования таких решений следователем подлежит замене на институт уведомления. Как необоснованную следует расценивать позицию отдельных ученых о том, что если руководитель следственного органа не дает согласие следователю на производство указанных действий, то за следователем надлежит сохранить право обращения в суд. В таком случае усматривается необходимость производства действий, не имеющих процессуальной перспективы, но приводящих к необоснованной загруженности как следователя, так и руководителя следственного органа. В качестве теоретического обоснования верности вносимого нами предложения следует обратиться к положениям УУС, который наделил прокурора правом давать следователю указание об аресте обвиняемого, что в условиях действия УПК РФ свойственно руководителю следственного органа. Согласно ст. 285 УУС следователь, не исполняя обозначенного указания прокурора, мог обратиться в суд со своими доводами. В развитие указанного научный и практический интерес представляет российский опыт правового регулирования процессуального порядка производства следователем следственного действия - контроль и запись переговоров. Данный порядок обязывал следователя получать судебное решение. Предварительного согласования такого процессуального решения с прокурором, до 2007 г. выполнявшего в большей степени процессуальные функции руководителя следственного органа, от следователя не требовалось. Как утверждал профессор Б.Я. Гаврилов [23. С. 196], серьезных нареканий со стороны суда и надзирающих прокуроров в течение полутора лет действия данной уголовно-процессуальной нормы (ст. 174.1 УПК РСФСР), дополнившей УПК РСФСР в связи с принятием Федерального закона от 20.03.2001 № 26-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции о защите прав человека и основных свобод», это не вызывало. О необходимости изменения процессуального положения следователя в уголовном процессе свидетельствуют и результаты проведенного нами в 10 субъектах Российской Федерации эмпирического исследования. В частности, из опрошенных следователей порядка 30% удовлетворены состоянием процессуальной самостоятельности. Около 60% следователей не в полной мере удовлетворены процессуальным положением ввиду необходимости частого согласования с руководителем следственного органа производства процессуальных действий и принятия процессуальных решений. 10% следователей указали на факты постоянного получения от руководителя следственного органа указаний в ходе расследования уголовного дела, что не позволяет им в полной мере самостоятельно осуществлять процессуальную деятельность по доказыванию и принятию процессуальных решений. Раскрывая проблему самостоятельного принятия следователем процессуальных решений (исходя из внутреннего убеждения), следует отметить, что научный интерес представляет предложение А.Н. Огородова о введении в уголовное судопроизводство института вступления в законную силу процессуальных решений следователя [21. С. 127]. Предложение нацелено на расширение процессуальной самостоятельности следователя, повышение статуса принимаемых им процессуальных решений, оптимизации института обжалования процессуальных решений следователя. Сложно разделить данную точку зрения, поскольку реализация указанного института на стадии предварительного расследования выступит дополнительным обстоятельством, приводящим к увеличению срока досудебного производства. А он и так сегодня вызывает неудовлетворенность невластных участников уголовного процесса ввиду длительности, о чем свидетельствует анализ практики судебного обжалования, в том числе и в ЕСПЧ. В заключение изложения вопроса о следователе как субъекте доказывания и принятия процессуальных решений в уголовном процессе следует сформулировать ряд выводов. 1. Отнесение следователя к стороне обвинения не означает отсутствие у него процессуальной обязанности собирать доказательства, оправдывающие лицо, которому инкриминируется совершение преступления. 2. Следователь утратил свое процессуальное положение в механизме разрешения уголовно-правового спора, изначально определенного Уставом уголовного судопроизводства. Сужение его процессуальной самостоятельности в процессе доказывания препятствует более полному достижению назначения уголовного судопроизводства. При этом процессуальную ответственность за правильное и в разумный срок разрешение обозначенного спора несет главным образом следователь, в чем усматривается несоответствие его правового положения потребности обеспечения публичных интересов в уголовно-процессуальной сфере.
Кальницкий В.В., Сальникова Т.И. Поддержание дознавателем (следователем) государственного обвинения: недолгая судьба одной нормы и ее неутраченный смысл // Законодательство и практика. 2020. № 1.
Журавлев А.В. Следователь как субъект процессуального руководства расследованием // Актуальные проблемы современного уголовного процесса : межвуз. сб. науч. статей / под ред. В.А. Лазаревой. Самара, 2008.
Авилов А.В. Субъекты обязанности доказывания в уголовном судопроизводстве : автореф. дис.. канд. юрид. наук. Краснодар, 2011.
Строгович М.С. Уголовное преследование в советском уголовном процессе. М., 1951.
Рахунов Р.Д. Возбуждение уголовного дела в советском уголовном процессе. М., 1954.
Вышинский А.Я. Итоги второй сессии Верховного Совета СССР // Социалистическая законность. 1938. № 9.
Петрухин И.Л., Куцова Э.Ф. О концепции уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации // Государство и право. 1992. № 12.
Воскобитова Л.А. Обвинение или обвинительный уклон // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 3.
Андреева О.И., Трубникова Т.В. Принятие судом решения о наличии в деянии лица злоупотребления правом и его последствия // Вест ник Томского государственного университета. 2019. № 438.
Азаров В.А., Боярская А.В. Уголовно-процессуальное познание и его современная реальность // Вестник Удмуртского университета. 2018. Т. 28, вып. 1.
Шейфер С.А. Следственные действия - правомерны ли новые трактовки? // Lex russica. 2015. № 10.
Андреева О. И. К вопросу о перспективах развития уголовного процесса в условиях цифровизации общественных отношений // Судебная реформа в современной России: результаты, проблемы и перспективы : материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию Кубанского гос. ун-та / отв. ред. В.А. Семенцов. Краснодар, 2020.
Хорьяков С.Н. Процессуальная самостоятельность следователя : дис.. канд. юрид. наук. М., 2006.
Ульянина Л. Т. Следователь - субъект доказывания в уголовном судопроизводстве // Вестник Московского университета МВД России. 2012. № 2.
Красильников С.В. Процессуальная ответственность и ее реализация : дис. канд. юрид. наук. М., 2019.
Лупинская П. А. Законность и обоснованность решений в уголовном судопроизводстве. М., 1972.
Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательное регулирование и практика. М., 2006.
Концепция судебной реформы в РСФСР. М., 1992.
Табаков С.А. Ведомственный процессуальный контроль за деятельностью следователей и дознавателей органов внутренних дел : авто-реф. дис. канд. юрид. наук. Омск, 2009.
Бекетов А.О. Руководитель следственного органа как субъект отношений обжалования : дис. канд. юрид. наук. Омск, 2017.
Огородов А.Н. Процессуальная самостоятельность следователя в уголовном судопроизводстве : дис. канд. юрид. наук. М., 2018.
Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание и формы. М., 1976.
Гаврилов Б.Я. Мониторинг УПК РФ в системе Министерства внутренних дел РФ // Уроки реформы уголовного правосудия в России. М., 2006.
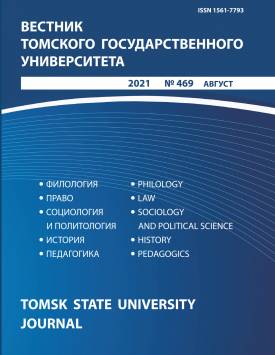

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью