Рассматривается проблема структурной композиции правовых норм в тексте законов XII таблиц. Выдвигается предположение, что модель составителей законов XII таблиц могла основываться на принципах, связанных с особенностями духовной культуры и соционормативного регулирования, характерными для архаического общества. Римский календарь должен рассматриваться в качестве нормативного механизма, отражающего и одновременно создающего определенный порядок в сфере природно-космической, тогда как связанные с ним и зафиксированные децемвирами законы фиксировали этот порядок в человеческом мире.
Some Observations on the Structure of the Law of the Twelve Tables (Tables VIII-X).pdf Трудно переоценить значение для исторической науки законов XII таблиц (далее - Законы), являющихся главным источником наших знаний о праве архаического Рима. Ценность их еще более возрастает, если учесть, что данные Законов активно привлекаются исследователями для реконструкции общественных отношений в Риме «царского периода» и эпохи Ранней республики. Воссоздаваемый в научной и учебной литературе образ архаического Рима в значительной мере опирается именно на сведения Законов, которые позволяют судить о степени развитости того или иного института либо общества в целом. В то же время, как справедливо было отмечено, «между двумя имеющимися в нашем распоряжении источниками - законами XII таблиц и катоновским трактатом “О земледелии” лежит огромная, почти ничем не заполненная хронологическая пауза, что само по себе должно нас предостеречь против слишком категоричных оценок состояния римского общества в этом временном промежутке» [1. С. 72]. Кроме того, необходимо учитывать, что используемая в настоящее время модель Законов является позднейшей реконструкцией древнего децемвирального свода, в основных своих чертах созданной немецкими учеными XIX в. М. Фойгтом и Х. Дирксеном и опиравшейся на «систему» Сабина, комментарии Гая к Законам и преторские эдикты [2. S. 43; 3. С. 109-110]. Исходным материалом для нее послужило хаотичное собрание цитат Законов и комментариев к ним, извлеченное из сочинений древних авторов. Нет необходимости доказывать, что при их систематизации и анализе историки и юристы Нового времени исходили из собственных представлений о раннем римском праве, перенося на него взгляды и стереотипы своего времени и своей правовой культуры. В частности, это выразилось в стремлении - неважно, осознанном или бессознательном - исследователей того времени выдвинуть на первый план сферу частного права, отодвинув на второй план право публичное [4. С. 73-74; 5. P. 9]. Так, М. Фойгт был убежден в том, что Законы являлись древнейшим сводом частного права с включением правовых норм других отраслей, так или иначе с ним связанных [2. S. 55]. Между тем нельзя не заметить, что данная реконструкция довольно слабо обеспечена в части источников. Как было отмечено выше, исходным материалом при первых попытках воссоздания текста Законов служило бессистемное собрание цитат отдельных положений свода и комментарии к ним. При этом прямые указания на расположение тех или иных норм в системе децемвирального свода крайне немногочисленны. Более или менее определенно мы можем говорить о расположении всего лишь четырех норм - в IV, X и XI-XII таблицах [6. С. 28]. Более того, ссылки на Сабина, Эмилия Галла и комментарии Лабеона к Законам весьма гипотетичны, поскольку структура их собственных произведений, сохранившихся лишь по фрагментам, нам не известна. Все это позволяет согласиться с неоднократно звучавшем в литературе мнением о том, что существующая в настоящее время реконструкция системы децемвирального свода носит весьма условный характер [3. С. 109-110; 6. С. 28, 43; 7. С. 88; 8. С. 22]. Оценивая реконструкцию М. Фойгта, исследователи справедливо указывают на то обстоятельство, что определяющее влияние на нее оказали общественные и правовые реалии XIX в [9. С. 246-247]. Осознание этого обстоятельства вызвало напряженную работу по палингенезу Законов в исторической и правовой науке. Учитывая важность темы, хотелось бы высказать некоторые соображения относительно структуры Законов. В современной историографии самое широкое распространение получило мнение о том, что Законы стали результатом законотворческой деятельности комиссии децемвиров, будучи, таким образом, важным нововведением в правовой жизни римской общины V в. до н.э.1. В то же время многие исследователи полагают, что создание децемвирального свода было фиксацией уже существующих правовых норм2. При этом знание и толкование «старого» неписаного права было исключительной прерогативой жрецов и магистратов из числа патрициев, контролировавших, в частности, коллегию понтификов3. Как полагают некоторые исследователи, господствующее место в Законах занимало сакральное право, а это, в свою очередь, указывает на то, что система построения нового свода в общих чертах должна была соответствовать требованиям ius sacrum [9. C. 246]. Однако если Законы представляли собой свод норм сакрального права, можно ли вообще говорить о наличии какой-либо четкой системы? В литературе зачастую бытует представление о том, что «предправовые» нормативные механизмы, возникавшие на стадии перехода от мононорм к зрелым формам права, отличались рыхлостью и бессистемностью по сравнению с правовыми системами, возникавшими в условиях государ-ства4. В основе такого представления находится восприятие современных правовых форм и моделей как некоего нормативного образца. При этом, однако, чем дальше мы уходим в архаику, тем более четкими и жестко построенными становятся нормативный инструментарий и мифоидеологические конструкты, порождаемые обществом того времени. В этой связи уместно привести свидетельство Цицерона, который указывает: «Оттого-то знание права и доставит вам радость и удовольствие, что вы увидите, насколько наши предки оказались выше всех народов государственной мудростью; достаточно сравнить наши законы с их Ликургом, Драконтом, Солоном. Нельзя даже поверить, насколько беспорядочно - прямо-таки до смешного - гражданское право всех народов, кроме нашего» (Cic. De orat. I.44.197. Пер. Ф.А. Петровского). Говоря об архаическом праве, необходимо прежде всего учитывать специфику ранних форм права. Как было отмечено, «можно заметить, что ранние формы права очень тесно переплетаются с комплексом религиозно-мифологических представлений, и прежде всего, с такими социальными нормами, как ритуал, обряд и миф. Чем проще общество, тем ближе право к ритуалу, регулирующему взаимоотношения мира людей и мира “богов”... тем меньше интереса к привычным для нас проблемам имущественного, семейного плана» [15. С. 225]. Как представляется, ключ к пониманию системы организации правовых норм в Законах дает сообщение Макробия, указывающее на связь их структуры с календарем: «Тудитан в третьей книге “О магистратах” сообщает, что об интеркаляции народ запрашивали десять мужей, которые к десяти таблицам законов прибавили еще две» (I.13.21) [8. С. 18-22; 16. С. 126-127; 17. С. 148]. Возможным подтверждением сведений Макробия является сообщение Цицерона, который также указывает на связь календаря с правовыми нормами, зафиксированными на неких таблицах (tabulum) (Ad Att. VI.1.8). В этой связи следует обратить внимание на хорошо известное свидетельство источников, согласно которым первой комиссией децемвиров было принято только десять таблиц законов и лишь позднее вторая комиссия добавила еще две таблицы (Liv. III.34.1)5. Прежде всего, бросается в глаза соответствие числа децемвиров числу принятых ими таблиц. В свете сообщения Макро-бия это позволяет предположить изначальную ориентацию структуры Законов на существовавший в архаическом Риме 10-месячный («Ромулов») год6. О нем, в частности, напоминает название последнего месяца в римском календаре, завершавшем годовой цикл, -december (букв. - «десятый»)7. Здесь мы сталкиваемся с проблемой, требующей отдельного рассмотрения, поскольку, согласно римской традиции, переход от 10-месячного к 12-месячному календарю произошел не в V в. до н.э., а несколькими веками ранее, при царе Нуме Помпилии8. Однако, в любом случае, даже если принять традиционную датировку смены календарной системы, составители Законов должны были ориентироваться на «сакральный» 10-месячный год (возможно, воспринимавшийся в качестве патрицианской модели времени), которому противопоставлялся «плебейский» (этрусский?) 12-месячный год9. Числа 10 и 12 выглядят явно неслучайными в рассказе Ливия. Как известно, переход на новый календарь был лишь частью серии религиозных реформ, проведенных Нумой Помпилием. В условиях того времени изменения в сакральной сфере сопровождались переменами в общественной жизни. Ливий, описывая истории принятия Законов, активно использует числовую символику. Первые «десять мужей» не только принимают десять таблиц, но и вершат суд каждые десять дней10. При этом их сопровождали десять ликторов - по одному на коллегу (III.34.8). Не совсем ясно, правда, сколько ликторов окружало децемвира в процессе судопроизводства - десять или двенадцать (III.34.8, 36.3). Можно заметить, что в сочинении Ливия первая комиссия противопоставляется второму составу децемвиров, принявшему окончательный вариант Законов (III.37.4). Теперь каждого из «мужей» окружает двенадцать ликторов, а всего на форуме присутствует сто двадцать «служителей» (III.36.3-4). Именно второму составу децемвиров Ливий приписывает попытку узурпации власти в Риме, под которой явно скрывались какие-то важные перемены в системе управления общиной11. В том случае, если десять таблиц Законов соответствовали десяти месяцам «Ромулова» года, первоначально последней была Х таблица. Она, таким образом, выступает в качестве пограничной между основным сводом и добавленными позднее двумя таблицами. Если это так, то систему построения Законов следует искать в пределах первых десяти таблиц. Задача облегчается тем, что можно говорить об аутентичности норм Х таблицы, по свидетельству Цицерона посвященной погребальным обрядам (Cic. De leg. II.25.64). Изучение соседних VIII, IX и X таблиц позволяет обнаружить существование определенной связи между ними: Х таблица посвящена погребальным обрядам, IX - регламентирует применение смертной казни, тогда как VIII содержит перечень преступных деяний, влекущих в качестве санкции штраф или смертную казнь. Таким образом, просматривается определенная система: VIII (деяние) - IX (наказание) - X (погребение). В свете сообщения Макробия о связи права и календаря можно предположить, что X таблица соответствовала декабрю, а IX - ноябрю. Ноябрь и декабрь маркировали время окончания сельскохозяйственного цикла, для которого было характерно наступление холодов и максимальное истощение солнечной энергии12. На декабрь приходится значимое практически для всех традиционных культур Европы время зимнего солнцестояния с самым коротким в году световым днем. Время зимнего умирания природы и замирания сил плодородия в глазах человека того времени естественным образом соотносились со смертью и погребением в человеческом обществе. В раннем Риме «космический» = природный порядок понимался одновременно как порядок религиозный, социальный и правовой, в силу чего религиозно-правовые нормы регулировали как социальные отношения, так и разделение времени и пространства, движение звезд, смену времен года и т.д.13 В таком свете календарь может рассматриваться как своего рода нормативный механизм, отражающий и одновременно создающий определенный порядок в природно-космической сфере, тогда как связанные с ним и зафиксированные децемвирами законы фиксировали этот порядок в человеческом мире. И то и другое, как отмечалось, было построено на единых принципах и имело аналогичные формы. Так, значительная часть норм VIII таблицы (согласно предложенной логике он должен соответствовать октябрю) связана с урожаем и вредоносной магией. Как отмечал Плиний, «у италийских племен также существуют определенные следы магии в XII таблицах» (NH. XXX.1.12). К ним, без сомнения, относится передаваемый Цицероном и другими древними авторами запрет распевать под страхом смерти некие «злые песни» (malum carmen)14. Боязнью вредоносной магии следует объяснить и запрет работать в ночное время на вспаханном поле, с принесением нарушителя в жертву Церере: «По XII таблицам смертным грехом для взрослого было потравить или сжать в ночное время урожай с обработанного плугом поля. [XII таблиц] предписывали [такого] обреченного [богине] Церере человека предать смерти. Несовершеннолетнего [виновного в подобном преступлении] по усмотрению претора или подвергали бичеванию, или присуждали к возмещению причиненного вреда в двойном размере» (Plin. NH. XVIII.3.12)15. Упоминание о человеческом жертвоприношении как санкции за нарушение сакральных норм присутствует и в требовании предать подземным богам (sacer esto) патрона, который причинил вред своему клиенту16. В основе этой нормы находится представление о сакральном характере договорных отношений, связывавших людей, вступавших в них. Судя по всему, в период создания Законов не проводилось разделения между религиозной клятвой и чисто юридическими действиями, поскольку и в том и другом случае должник давал сакральную клятву nuncupatio, невыполнение которой означало обречение себя на жертву в случае невыполнения обязательства (Gell. XX.1.14; Fest. P. 496 L; Serv. V.237). Сюда же следует отнести лжесвидетельство, которое, по свидетельству Авла Геллия, каралось сбрасыванием с Тарпейской скалы (XX.1.53). Отдельную группу представляют нормы, связанные с запретом магических практик в отношении земли и произрастающего на ней урожая. Как свидетельствует Плиний, согласно XII таблицам тайное истребление урожая каралось более тяжко, чем убийство человека (NH. XVIII.3.12). Эти сведения подтверждает Сенека, который отмечает: «И у нас законы XII таблиц грозят наказанием тому, кто будет “заговаривать чужой урожай” (quis alienos fructus excan-tassavit). Невежественная древность верила, что заклинаниями можно вызывать дожди и предотвращать их» (NQ. IV.7. Пер. Т.А. Бородай). О существовании магической практики «переманивания» чужого урожая со ссылкой на Законы сообщают Плиний Старший, Апулей, Сервий Грамматик, Аврелий Августин и Марциан Капелла17. На то, что нормы Законов не являются неким исключением из правил, указывает сочинение Катона Старшего «De agri cultura», в котором присутствуют следы архаического восприятия земли как живого существа. Один из примеров подобного рода - требование Катона, обращенное к вилику, «не обманывать нивы», поскольку это ведет к несчастью18. М.Е. Сергеенко расценивает слова Катона как свидетельство того, что в представлении сельского населения Италии землю связывали с земледельцем определенные отношения: она рассматривалась как должник, которому доверяется (creditur) посев, в силу чего он должен быть возвращен в виде урожая (reddit) подобно долгу, возвращаемому с процентами [26. С. 137. Прим. 4]19. С другой стороны, VIII таблица содержит нормы, посвященные различным видам членовредительства20. Скорее всего, это не случайность, поскольку характерное для архаического сознания стремление к «ви-тализации» земли и произрастающему на нем урожаю должно было ставить знак равенства между магическими процедурами, направленными против будущего урожая, вредоносной магией, имеющей опасность для человека, и реальным нанесением телесных повреждений. Не исключено, что членовредительству могло быть уподоблено и тайное срезание колосьев, связанное со сбором урожая, являвшемся важной вехой в аграрном календаре. Он открывал подготовку к сезонным изменениям, обозначавшим завершение годичного цикла и осознававшихся как время замирания жизненных сил природы, переходившей под власть хтонических божеств - тех самых, которым приносились в жертву лица, наносившие ущерб (прямой либо посредством магических процедур) посевам и урожаю21. В этой связи обращает на себя внимание, что в источниках прослеживается особая роль коллегии понтификов в толковании и, возможно, составлении За-конов22. Секст Помпоний, римский юрист II в., указывает: «Знание всех этих прав и умение их толковать, и иски были в руках понтификов, и устанавливалось в каждом году, кто из них будет ведать частными делами, и почти сто лет народ придерживался этого обычая» (D.I.2.6)23. Кроме того, нельзя исключить того, что понтифики входили в комиссию децемвиров. Иоанн Лид в этой связи оставил туманное по смыслу сообщение: «Эти люди [децемвиры] были магистратами до тех пор, пока кто-то не пожелал причислить к разряду магистратов тех, кого римляне называют понтификами» (Mag. I.35). Не совсем понятно, что имеет в виду древний автор: либо понтифики противопоставляются магистратам - децемвирам (хотя, согласно сведениям Ливия, на время работы децемвиров была парализована деятельность остальных магистратов), либо же понтифики и являлись децемвирами. Обратившись к источникам, мы лишь укрепляемся в своих сомнениях. Как сообщает Ливий, раз в 10 дней каждый из децемвиров председательствовал на суде (III.33.8). Это сообщение приобретает особый смысл при сравнении его со сведениями других авторов. Дионисий сообщает о том, что понтифики были судьями над всеми частными лицами, магистратами и жрецами (II.73.2). По сведениям Феста, верховный понтифик являлся судьей как для частных лиц, так и для магистратов (P. 113L). Не менее интересно замечание Ливия о том, что децемвиры «походили на десять царей» (III.36.3)24. Возможно, слова Ливия следует воспринимать в качестве фигуры красноречия, призванной подчеркнуть тиранические замашки децемвиров, однако, как сообщают Плутарх и Зосима, царь - в данном случае Нума Помпилий - и был первым верховным понтификом (Plut. Num. 9-12; Zos. IV.36). Эта информация подтверждается Сервием и Исидором Севильским, по сведениям которых у римлян было в обычае, чтобы царь одновременно был и жрецом, а именно понтификом (Serv. Aen. III.80; Isid. Orig. VII.12.14). Выход на понтификов не случаен, поскольку в их руках находилось знание правил, регулирующих взаимоотношения мира людей и мира богов. Одной из обязанностей понтификов было наблюдение за небесными светилами, что было напрямую связано с составлением и регулированием календаря [12. C. 39]. Как сообщает Авл Геллий, верховный понтифик составлял особую таблицу, в которой фиксировались различные астрономические явления (II.28.6)25. Согласно Цицерону, pontifex maximus заносил записи, накопившиеся за год, на особую выбеленную таблицу, которую вывешивал на стене своего дома (De orat. II.52). Это сообщение перекликается со сведениями Дионисия, который сообщает, что Анк Марций призвал понтификов и получил от них записи с описанием ритуалов, сведенных воедино при Нуме Помпилии, и велел записать их на таблицах и выставить на Форуме (III.36.4). В какой то степени это напоминает историю создания Законов, причем необходимо учитывать, что версия Ливия не является единственной. В источниках существует определенная разноголосица относительно времени первой кодификации права, которую древние авторы относят ко времени правления Анка Марция, Сервия Туллия и Тарквиния Гордого. Как отмечает А.В. Коптев, нельзя исключать того, что все они имели место, в связи с чем в повествовании Ливия всплывают фрагменты традиции, относящейся к разным эпохам [21. С. 40]. Под контролем понтификов находилась как сфера божественного/природного, регулировавшаяся через ритуалы и календарь, так и сфера человеческо-го/социального, причем в качестве универсального правового регулятора выступало сакральное право. Правовые обычаи, стихийно сложившиеся в ходе общественной жизни, осмысливались древним человеком как отражение божественного права. Выполняя функцию посредников между богами и людьми, понтифики использовали календарь как модель для создания правового порядка в римской общине [17. С. 149]. Понтифики ведали календарем, судопроизводством и частным правом, что позволяло им осуществлять контроль над частной жизнью римлян26. Одновременно понтифики были хранителями правовых норм, имея возможность толковать их для непосвященных, в категорию которых подпадала основная масса населения Рима. Именно традиции архаического сакрального права обусловили особенности структуры Законов, в которых жизнедеятельность человеческого общества была увязана с годичным календарным циклом, отражавшем природный/космический порядок. Кропотливый труд романистов XIX-XX вв. по восстановлению структуры Законов дал ограниченные результаты, поскольку порочным был исходный элемент палингенезы, проецировавший логику и правовые модели буржуазного права, главным образом гражданского, на децемвиральный свод. Таким образом, главным препятствием к пониманию смысла построения Законов является зачастую лишенный рефлексии автоматизм сознания современного человека, рассматривающего архаическое право через призму характерных для Нового времени представлений о праве и его роли в жизни общества.
Андреев Ю.В. Гражданская община и государство в античности // Вестник древней истории. 1989. № 4. С. 71-74.
Voigt M. Die XII Tafeln. Geschichte und System des Civil- und Criminalrechtes, wie Processes der XII Tafeln nebst deren Fragmenten. Bd. I-II. Leipzig, 1883.
Муромцев С.А. Гражданское право древнего Рима. М., 1883.
Пухта Г.Ф. История римского права. Т. I, вып. 1-2 : пер. с нем. М., 1864.
Diliberto O. Materiali per la palingenesi delli XII Tavole. Calgari, 1992. Vol. I.
Кофанов Л.Л. К вопросу о палингенезе законов XII таблиц: сакральное право в системе римского законодательства // Вестник древней истории. 1996. № 2. С. 26-43.
Покровский И. А. История римского права. 4-е изд. Петроград, 1918.
Дождев Д. В. Римское частное право. М., 1996.
Кофанов Л.Л. Сакральное право в системе римского законодательства // Методология и методика изучения античного мира. Доклады конференции Российской ассоциации антиковедов (31 мая - 2 июня 1993 г.). М., 1994. С. 239-248.
Дождев Д.В. Римское архаическое наследственное право. М., 1993.
Mousourakis G. A Legal History of Rome. L. ; N.Y., 2007.
Сидорович О.В. Анналисты и антиквары: Римская историография конца III-I вв. до н.э. М., 2005.
Кофанов Л.Л. Сакральное право: от человеческих жертвоприношений к правовым санкциям // Религия и община в древнем Риме / под ред. Л.Л. Кофанова, Н.А. Чаплыгиной. М., 1994. С. 16-44.
Падалетти Г. Учебник истории римского права : пер. с ит. Одесса, 1883.
Першиц А.И. Проблемы нормативной этнографии // Исследования по общей этнографии. М., 1979. С. 210-240.
Дементьева В.В. Децемвират в римской государственно-правовой системе середины V в. до н.э. М., 2003.
Коптев А.В. Долговое право и календарь раннего Рима // Древний Восток и античный мир. Вып. VII. М., 2005. С. 139-154.
Michels A.K. The Calendar of the Roman Republic. Princeton, 1967.
York M. The Roman Festival Calendar of Numa Pompilius. NY-Bern-Fr.-a.-M., 1986.
Коптев А.В. XII таблиц и календарь архаического Рима: к вопросу об обществе и эпохе записи древнейших римских законов // Власть, человек, общество в античном мире. Доклады конференции РАА 1996-1997 гг. М., 1997. С. 372-379.
Коптев А.В. От эпохи царей к республике: формирование государственных структур в раннем Риме // История древних цивилизаций. Государство и право древнего Рима / отв. ред. А.В. Махлаюк. Вып. 1. Н.-Новгород, 2006. С. 9-59.
Коптев А. В. Интеррегнум и диктатура: происхождение немагистратских должностей в раннем Риме // Вестник Литературного института им. А.М. Горького. 2014. № 3. С. 80-103.
Топоров В.Н. Славянские комментарии к нескольким латинским архаизмам // Этимология 1972. М., 1974. С. 3-19.
Erdkamp P. War, Vestal Virgins and live burials in the Roman Republic // Religion and Classical Warfare. Vol. II: The Roman Republic / M. Dillon, C. Matthew (eds.). Barnsley, 2020. P. 180-215.
Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. М., 1976.
Сергеенко М.Е. Комментарии // Марк Порций Катон. Земледелие / пер. М.Е. Сергеенко. М., 1950. C. 124-215.
Сидорович О.В. Децемвират в истории архаического Рима // Древность и средневековье Европы / под ред. И.Л. Маяк, А.З. Нюркаевой. Пермь, 2002. С. 18-26.
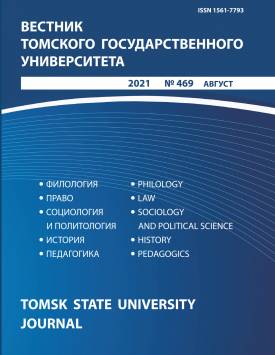

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью