Взаимосвязь интернет-зависимого поведения, интеллектуального развития и культурной конгруэнтности у детей младшего школьного возраста
Показано, что младшие школьники, характеризующиеся хорошими интеллектуальными способностями, с высокой вероятностью будут демонстрировать высокие показатели культурной конгруэнтности. При этом выявлено отсутствие статистически значимых различий в интеллектуальном развитии у детей, характеризующихся склонностью к интернет-зависимому поведению, и детей без интернет-зависимости. Демонстрируется, что поведение младших школьников, склонных к интернет-аддикции, часто проявляется в нарушении нормативной ситуации в школе и низкой культурной конгруэнтности, т.е. они чаще не слушают учителя, пропускают уроки и проявляют агрессию. Такие ученики отличаются более выраженной импульсивностью, моторной расторможенностью и уверенностью в себе.
Relationship of Internet-Dependent Behavior, Intellectual Development and Cultural Congruence in Primary School Children.pdf Введение Интеллектуальные способности - это способности, необходимые человеку для выполнения различных видов деятельности. Развитие интеллектуальных способностей связано с развитием всех когнитивных процессов человека, которое происходит гетерохронно с учетом множества внутренних и средовых факторов [1]. Мышление как один из основных познавательных процессов, в свою очередь, является связующим звеном, объединяющим все остальные когнитивные процессы (восприятие, память, воображение), а также обеспечивающим их развитие и участие на каждом этапе мыслительного акта [2]. В младшем школьном возрасте учебная деятельность становится ведущей деятельностью ребенка, в связи с чем она и определяет развитие всех 1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-29-02092 офи_м. С.В. Леонов, А.А. Якушина, И.С. Поликанова, В.А. Клименко процессов, происходящих на этом этапе [3]. При этом важно отметить, что мышление в данном случае выступает в роли основного процесса, претерпевающего значительные изменения. Переход мышления на новую ступень приводит к перестройке и развитию памяти, внимания и других когнитивных процессов в возрасте 7-10 лет [4]. Именно поэтому в рамках изучения интеллектуального развития детей необходимо в первую очередь учитывать способность к систематизированной и планомерной мыслительной деятельности, в которой также будут задействованы процессы и внимания, и памяти, и восприятия. Помимо этого, исследование развития интеллектуальных способностей младших школьников может рассматриваться как изучение одной из сторон психической деятельности, которая связана со многими личностными и поведенческими особенностями детей [5]. Так, например, некоторые исследователи говорят о наличии связи между интеллектуальным развитием младших школьников, развитием их когнитивных функций и культурной конгруэнтностью - соответствием ребенка типичным для его возраста правилам, принятым в культуре [6, 7]. Для каждого возраста характерна определенная модель взаимодействия с другими людьми, способствующая развитию ребенка [6]. Родители и учителя, используя текущую социальную ситуацию развития, могут передавать ребенку культурные нормы и правила, которые должны регулировать его поведение. Культурная конгруэнтность определяется соблюдением этих правил и адекватным поведением, которое наиболее соответствует возрасту [8]. Стоит отметить, что культурная конгруэнтность демонстрирует то, насколько ребенок усвоил и интериоризировал имеющиеся в культуре нормы поведения в обществе и взаимодействия с другими людьми. Признаками конгруэнтного поведения детей младшего возраста являются способность слушаться учителя и родителей, умение готовиться к урокам, собирать необходимые для занятий материалы, уважительное и доброжелательное общение со сверстниками и др. [9]. Так, в одном из исследований Л.Ф Баяновой и соавт. было показано, что интеллектуальное развитие ребенка в младшем школьном возрасте оказывает влияние на его поведение и соответствие принятым нормам [10]. Авторы считают, что это связано с тем, что поведение ребенка в той или иной ситуации предполагает интеллектуальный анализ, который способствует лучшему пониманию культурных норм и способствует следованию им. Интеллектуальное развитие детей младшего школьного возраста может быть связано также с поведением ребенка в Интернете. В настоящее время Интернет стал неотъемлемой частью жизни человечества, и младшие школьники не являются исключением [11]. Во многих школьных заведениях не разрешено использование телефонов, но совсем запретить ими пользоваться они не в силах. На перемене телефон можно увидеть у многих учащихся, и не только у старшеклассников, но и у детей начальных классов. От нормы использования Интернета аддиктивное поведение отличается появлением определенных проблем со здоровьем [12]. Результаты совре-216 Взаимосвязь интернет-зависимого поведения менных исследований выделяют следующие наиболее частые негативные последствия чрезмерного использования Интернета: появление симптомов депрессии, увеличение количества времени, проведенного за компьютером, повышение тревожности, снижение социальной активности, раздражительность и др. [13-15]. Так, например, в исследовании А. Акин и М. Искандер, участниками которого были 300 студентов с различной выраженностью интернет-зависимого поведения, было показано, что интернет-зависимость не только является одним из факторов, способствующих развитию депрессии и повышенной тревоги, но и влияет на протекание данных расстройств [13]. Помимо этого, у школьников могут отмечаться физиологические изменения, например сухость в глазах, головные боли, боли в спине и руках, нарушения сна и режима питания [15]. К. Янг также выделяет следующие симптомы, связанные с интернет-зависимым поведением: количество времени пребывания в Сети превышает время занятия другими видами деятельности и общения с людьми; отрицание затраченного времени, проведенного в киберпространстве; изменения в настроении [12]. В свою очередь, А.Е. Войскунский предлагает следующее описание поведенческих характеристик: ложь близким и друзьям; стремление освободиться от внешних проблем пребыванием в социальных сетях; смирение с потерей друзей, разрушением семьи [16]. Стоит отметить, что времяпрепровождение в интернет-пространстве может негативно сказываться на академических успехах школьников и, соответственно, влиять на их интеллектуальное развитие [17-19]. Особенно болезненно эти признаки проявляются в детском и юном возрасте в силу подверженности этой возрастной категории внушаемости, подражанию, заражению, отсутствия достаточного социального и психологического опыта. В связи с этим, как отмечает Н.Г. Оськина, интернет-зависимость в младшем школьном возрасте может привести к вытеснению учебной деятельности, ссорам с родителями и ослаблению связей с ними, отсутствию интереса к внеучебной активности (спорт, музыка, рисование и т.п.), речевым нарушением [20]. Таким образом, в рамках настоящей работы мы хотели проверить гипотезу о существовании связей между интеллектуальным развитием, интернет-зависимым поведением и культурной конгруэнтностью у младших школьников. Помимо этого, на наш взгляд, было важным изучить, каким образом интернет-зависимое поведение связано с личностными особенностями детей. Методы В исследовании приняли участие 92 школьника из Москвы в возрасте 9-10 лет (M = 9,05; SD = 0,22), среди них 50 девочек и 42 мальчика. Для диагностики особенностей проявления интернет-зависимости нами была использована методика «Шкала интернет-зависимости Чена» (шкала CIAS). Шкалы данной методики измеряют следующие показатели: 217 С.В. Леонов, А.А. Якушина, И.С. Поликанова, В.А. Клименко компульсивные симптомы, симптомы отмены, симптомы толерантности, внутриличностные проблемы со здоровьем и проблемы с управлением временем. Интегративный показатель подсчитывается суммой баллов по всем шкалам. Суммарный показатель отражает риск наличия интернет-зависимости (от минимально риска до наличия устойчивого паттерна зависимости). Интеллектуальное развитие оценивалось по тесту «Прогрессивные матрицы Равена» Данный тест представляет собой невербальный тест интеллекта. Матрицы Равена позволяют измерить G-фактор общего интеллекта [1]. Успешность выполнения данного теста отражает способность человека к обучению на основе обработки, кодирования и обобщения получаемой информации [21]. Кроме того, многие исследования показывают, что данные теста Равена хорошо согласуются с показателями интеллекта теста Векслера, тестом Стенфорда-Бине и др. [22]. Для изучения личностных характеристик детей использовалась методика «Многофакторный личностный опросник Р. Кеттелла», модифицированная для детей 8-12 лет (адаптация Э.М. Александровской). Данная методика содержит 120 вопросов и включает в себя 12 факторов, отражающих такие проявления личности ребенка, как эмоциональная стабильность, ответственность, застенчивость, жизнерадостность, расслабленность и др. Помимо этого, с помощью данной методики можно проанализировать уровень развития вербального интеллекта (фактор В). Он включает в себя такие операции, как обобщение, овладение логическими и математическими операциями, легкость усвоения новых знаний. Для диагностики культурной конгруэнтности использовалась методика «Определение культурной конгруэнтности младшего школьника» Л.Ф. Баяновой и соавт. [23]. Данная методика состоит из 56 утверждений и содержит 5 шкал: - соответствие ожиданиям взрослого, послушность (ориентация ребенка на взаимодействие со взрослым и умение менять свое поведение в зависимости от ожиданий, которые предъявляют родители, учителя и другие значимые взрослые); - самоконтроль (ограничение импульсивности, способность контролировать свои действий); - соблюдение правил безопасности (умение ребенка соблюдать правила, связанные с обеспечением безопасности); - самоорганизованность (способность соблюдать правила этикета и поддерживать адекватное ситуации поведение); - самообслуживание (способность ребенка соблюдать опрятность и соответствовать правилам поддержания гигиены) Для статистического анализа данных использовался пакет IBM SPSS Statistics 22 для Windows. Для обработки полученных результатов были использованы следующие статистически! критерии: t-критерий Стьюдента для независимых выборок, коэффициент корреляции г-Пирсона, а также дисперсионный анализ (one way ANOVA). 218 Взаимосвязь интернет-зависимого поведения Результаты исследования В целях исследования связи интернет-зависимого поведения младших школьников общая выборка была поделена на 2 группы по шкале CIAS методики «Шкала интернет-зависимости Чена»: в первую группу вошли ученики, характеризующиеся отсутствием интернет-зависимости (значения по шкале CIAS ниже 42), во вторую группу - ученики, характеризующиеся склонностью к возникновению интернет-зависимого поведения (значения по шкале CIAS выше 42). Следует отметить, что в данной выборке только один человек характеризовался значением по шкале CIAS 65 - нижней границей, характеризующей поведение с компонентом злоупотребления Интернетом (данный испытуемый вошел во вторую группу). Статистический анализ, проведенный по t-критерию Стьюдента, выявил значимые различия между указанными группами (с отсутствием интернетзависимости vs со склонностью к ней) по следующим шкалам методики конгруэнтности: «Ученик не врет, не обманывает» (3,1 vs 2,4; Т = 2,2; р = 0,031), «Ученик слушается учителя» (3,5 vs 2,9; Т = 2,8; р = 0,008), «Ученик думает, прежде чем что-либо делать» (3,14 vs 2,7; Т = 2,1; р = 0,042). Кроме того, статистический анализ выявил различия на уровне тенденции по следующим факторам опросника Кеттела: фактор D «возбудимость» (5,6 vs 6,5; T = -1,8; p = 0,08) и фактор Е «склонность к самоутверждению» (5,2 vs 6,1; T= -1,8; p = 0,08). Полученные результаты были также подтверждены корреляционным анализом, выявившим значимое отрицательное влияние интегральной переменной CIAS методики по определению интернет-зависимости Чена и следующими шкалами методики конгруэнтности: со шкалой «Ученик думает, прежде чем что-либо делать» (г = -0,288, p = 0,033); со шкалой «Ученик не врет» (г = -0,265, p = 0,048). То есть чем выше у младших школьников склонность к интернет-зависимому поведению, тем чаще они будут демонстрировать описанное выше поведение. Дополнительно был проведен дисперсионный анализ ANOVA для обеих выборок, который выявил значимые результаты по следующим шкалам: фактору D «возбудимость» по опроснику Кетелла (F = 2,778, p = 0,016); шкалам «Ученик не дерется» (F = 2,014, p = 0,039); «Ученик не пропускает уроки» (F = 2,903, p = 0,05); «Ученик не опаздывает» (F = 2,489, p = 0,011) методики конгруэнтности. Также статистический анализ выявил положительные корреляции между суммарным показателем теста «Прогрессивные матрицы Равена», а также рядом шкал по методике конгруэнтности: «Ученик получает хорошие оценки» (г = 0,257, p = 0,022); «Ученик правильно говорит» (г = 0,309, p = 0,006); «Ученик занимается развитием памяти» (г = 0,286, p = 0,010); «Ученик много читает» (г = 0,348, p = 0,002); «Ученик правильно произносит слова» (г = 0,321, p = 0,004); «Ученик не делает ошибок в домашних заданиях» (г = 0,227, p = 0,045); «Ученик грамотен» (г = 0,310 , p = 0,05); «Ученик внимателен» (г = 0,316, p = 0,04). 219 С.В. Леонов, А.А. Якушина, И.С. Поликанова, В.А. Клименко Обсуждение результатов Таким образом, на основе полученных данных можно предположить, что, во-первых, дети с выраженной тенденцией к интернет-зависимому поведению характеризуются большей импульсивностью, проявлением агрессии, независимостью, отстаиванием своих интересов и уверенностью в себе. Кроме того, таким детям свойственно чаще демонстрировать нарушения нормативной ситуации, а также проявлять неконгруэнтное поведение. В частности, для таких детей свойственно чаще говорить неправду, а также не слушать учителя, опаздывать на уроки, прогуливать их, драться. Данные результаты согласуются с результатами более ранних исследований, в которых было продемонстрировано, что интернет-зависимость негативно сказывается на поведении школьников, а также на их взаимоотношениях со сверстниками и учителями [24, 25] Также в нашем исследовании была продемонстрирована взаимосвязь склонности к интернет-зависимому поведению с такими личностными характеристиками, как возбудимость и склонность самоутверждению. Данные взаимосвязи могут свидетельствовать о том, что младшие школьники, склонные к интернет-зависимому поведению, отличаются повышенной возбудимостью на слабые провоцирующие стимулы, чрезвычайная активность у них порой сочетается с самонадеянностью. Для них характерны моторное (постоянное) беспокойство, отвлекаемость, недостаточная концентрация внимания. Такие дети часто плохо владеют собой, по незначительному поводу у них могут возникать бурные эмоциональные реакции, и их поведение сильно зависит от наличного состояния. Полученные результаты также согласуются с данными прошлых исследований. Так, например, в метаанализе, проведенном Koo и соавт., было показано, что интернет-зависимость значимо коррелирует с такими показателями, как нарушение внимания, недостаточность самоконтроля и трудности с эмоциональной регуляцией [24]. Дети с высоким фактором «склонность к самоутверждению» имеют выраженную склонность к самоутверждению, противопоставлению себя как детям, так и взрослым, отличаются стремлением к лидерству и доминированию. Эти качества часто сопровождаются поведенческими проблемами, наличием агрессии; лидерские тенденции часто не находят реального воплощения, так как многим формам социального взаимодействия детям еще предстоит обучиться. У таких детей выражено стремление к самоутверждению, самостоятельности и независимости, они живут по собственным соображениям, игнорируя социальные условности и авторитеты, агрессивно отстаивая свои права на самостоятельность и требуя проявления самостоятельности от других. Взаимосвязь данного показателя с интернет-зависимым поведением может объясняться, с одной стороны, тем, что такие дети, встречая непонимание и имея конфликты с другими, уходят от взаимодействия в виртуальную реальность, а с другой стороны, в Интернете такие дети могут про- 220 Взаимосвязь интернет-зависимого поведения являть свои качества, не сталкиваясь с трудностями и ссорами (например, в интернет-играх) [26-28]. Таким образом, мы видим, что дети с выраженной тенденцией к интернет-зависимому поведению характеризуются большей импульсивностью и моторной расторможенностью, агрессией, независимостью, отстаиванием своих интересов, лидерскими качествами, уверенностью в себе. Можно предположить, что поскольку поведение младших школьников регламентируется множеством правил, накладываемых в том числе школой учителями, родителями, дети не могут в полной мере реализовывать свои желания и интенции, что приводит к тому, что они находят пути их реализации в Интернете, например, играя в компьютерные игры [29]. Помимо этого, на наш взгляд, кажется важным подчеркнуть, что получение удовольствия от компьютерных игр и Интернета может приводить к развитию зависимости по классической схеме развития аддикции, сопровождающегося в том числе выделением нейромедиатора дофамина. В данном процессе не последнее место играют генетические факторы. Так, показано, что снижение в некоторых участках мозга количества дофаминовых рецепторов второго типа (D2) повышает риск появления небезопасного поведения и различного рода зависимостей (в том числе алкогольной, наркотической и гэм-блингу). Снижение дофаминовых рецепторов, в свою очередь, может приводить к трудностям получения положительных эмоций и возможности менять свое поведение в зависимости от полученного опыта, что не позволяет зависимым людям отказаться от аддикции самостоятельно [30]. Необходимо отметить, что в результате наших исследований не было выявлено значимых различий в интеллектуальном развитии у детей с различным уровнем проявления интернет-зависимого поведения. Это может быть связано, с одной стороны, с особенностями выборки (например, с общим уровнем интеллектуального развития учеников школы, в которой проводилось исследовании), а с другой - с неоднозначным влиянием интернетзависимости на развитие когнитивных процессов, а также с тем, что на данный момент интернет-технологии активно вливаются в учебный процесс [31]. Еще одним значимым результатом нашего исследования является выявление того факта, что младшие школьники, характеризующиеся хорошими интеллектуальными способностями, с высокой вероятностью будут демонстрировать конгруэнтное поведение. То есть дети, у которых более развиты интеллектуальные способности, будут склонны чаще слушать учителя, делать меньшее количество ошибок и совершать больше действий, направленных на свой собственное развитие. Можно предположить, что это может быть связано с более сформированной произвольной саморегуляцией у таких детей [32, 33]. Выводы В нашем исследовании была показана положительная связь интеллектуального развития младших школьников с высоким уровнем культурной 221 С.В. Леонов, А.А. Якушина, И.С. Поликанова, В.А. Клименко конгруэнтности, т.е. соответствием ребенка типичным для его возраста правилам, принятым в культуре. В то же время исследование не выявило различий в интеллектуальном развитии у младших школьников, характеризующихся склонностью к интернет-зависимому поведению, и детей без интернет-зависимости. При этом были выявлены значимые особенности, характеризующие поведение младших школьников, склонных к интернет-аддикции. К примеру, это проявляется в демонстрации нарушений нормативной ситуации в школе, а также проявлении неконгруэнтного поведения: в частности, такие дети чаще говорят неправду, не слушают учителя, опаздывают на уроки, прогуливают их, дерутся. Кроме того, такие ученики отличаются более выраженной импульсивностью и моторной расторможенностью, агрессивным отстаиванием своей позиции, уверенностью в себе, лидерскими качествами. Школьная среда характеризуется нормативными правилами и порядками, поэтому ученики далеко не всегда могут реализовывать свои побуждения и желания. В данном исследовании можно сделать вывод о том, что более импульсивные и моторно-расторможенные дети, характеризующиеся в том числе проявлением агрессивных черт в поведении, будут в большей мере характеризоваться склонностью к интернет-зависимому поведению, поскольку оно позволяет им проявлять свои желания и интенции, которые в строго нормированной школьной среде часто не могут найти реализацию.
Ключевые слова
младший школьный возраст,
когнитивное функции,
интеллектуальное развитие,
когнитивные функции,
интеллект,
культурная конгруэнтность,
интернетзависимостьАвторы
| Леонов Сергей Владимирович | Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова | кандидат психологических наук, доцент кафедры методологии психологии факультета психологии | svleonov@gmail.com |
| Якушина Анастасия Александровна | Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова | аспирант кафедры психологии образования и педагогики факультета психологии | anastasia.ya.au@yandex.ru |
| Поликанова Ирина Сергеевна | Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова | кандидат психологических наук, старший научный сотрудник лаборатории «Психология профессий и конфликта» факультета психологии | irinapolikanova@mail.ru |
| Клименко Виктор Александрович | Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова; Томский государственный университет | научный сотрудник кафедры методологии психологии факультета психологии; директор НОЦ «Сибирский центр промышленного дизайна и прототипирования» | klimenko@siberia.design |
Всего: 4
Ссылки
Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования. СПб. : Питер, 2002. 272 с.
Матюшкина А.М Развитие творческой активности школьников. М. : Педагогика, 1991. 160 с.
Выготский Л.С. Собрание сочинений : в 6 т. / под ред. М.Г. Ярошевского. М. : Педа гогика, 1984. Т. 6: Научное наследство. 400 с.
Шевандрин Н.И. Основы психологической диагностики : учебник для студетов вузов : в 3ч. М. : ВЛАДОС, 2003. Ч. 1.288 с.
Пантина Н.С. Становление интеллекта в дошкольном детстве. М. : РОССПЭН, 1996. 272 с
Bayanova L.F., Mustafin T.R. Factors of compliance of a child with rules in a Russian cultural context // European Early Childhood Education Research Journal. 2016. Vol. 24 (3). P. 357-364. DOI: 10.1080/1350293X.2016.1164394
Цивильская Е.А., Баянова Л.Ф.Исследование особенностей теоретического мышле ния у интеллектуально одаренных учеников с высоким уровнем культурной конгруэнтности // Современное педагогическое образование. 2018. № 3. С. 9-13.
Баянова Л.Ф., Миняев О.Г. Влияние культурной конгруэнтности на личностные свойства подростков // Казанский педагогический журнал. 2018. № 6 (131). 192-195.
Bayanova L.F., Tsivilskaya E.A., Bayramyan R.M., Chulyukin K.S. A cultural congruence test for primary school students // Psychology in Russia: State of the Art. 2016. Vol. 9, is. 4. P. 94-105. DOI: 10.11621/pir.2016.0408
Баянова Л.Ф., Веракса А.Н., Попова Р.Р., Никанорова С.А. О регуляторных функциях дошкольников в контексте нормативной ситуации // Современное дошкольное образование. 2018. № 5 (87). С. 4-15. DOI: 10.24411/1997-9657-2018-00017
Kubey R.W., Lavin M J., Barrows J.R. Internet use and collegiate academic performance decrements: Early findings // Journal of Communication. 2001. Vol. 51. P. 366-382.
Young K.S. Internet addiction: the emergence of a new clinical disorder // Cyber Psychology and Behavior. 1998. Vol. 1. P. 237-244.
Akin A., iskender M. Internet addiction and depression, anxiety and stress // International Online Journal of Educational Sciences. 2011. Vol. 3 (1). P. 138-148.
Caplan S.E. Preference for online social interaction: a theory of problematic Internet use and psychosocial well-being // Communication Research. 2003. Vol. 30. P. 625-648.
Дубровина О.В. Влияние виртуальной аддикции на особенности Я-концепции лиц юношеского возраста // Вестник Ишимского государственного педагогического института им. П.П. Ершова. 2013. № 5 (11). С. 110-115.
Войскунский А.Е. Актуальные проблемы зависимости от интернета // Психологический журнал. 2004. № 25 (1). C. 90-100.
Sengupta A., Broyles I., Brako L., Raskin G. Internet addiction: Impact on academic performance of premedical post-baccalaureate students // Medical Science Educator. 2017. Vol. 28. P. 23-26. DOI: 10.1007/s40670-017-0510-5
Zhou D., Liu J., Liu J. The effect of problematic Internet use on mathematics achievement: the mediating role of self-efficacy and the moderating role of teacher-student relationships // Children and Youth Services Review. 2020 Vol. 118 (C). DOI: 10.1016/j.childyouth.2020.105372
Ravizza S.M., Hambrick D.Z., Fenn K.M. Non-academic internet use in the classroom is negatively related to classroom learning regardless of intellectual ability // Computers & Education. 2014. Vol. 78. P. 109-114. DOI: 10.1016/j.compedu.2014.05.007
Оськина Н.Г. Проблема интернета и компьютеризации обучения в младшем школьном возрасте // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2012. № 3 (50). C. 57-59.
Raven J. The Raven Progressive Matrices: a Review of National Norming Studies and Ethnic and Socioeconomic Variation Within the United States // Journal of Educational Measuremen. 2005. Vol. 26 (1). Р. 1-16. DOI: 10.1111/j.1745-3984.1989.tb00314.x
Галанов А.С. Психодиагностика детей. М. : Сфера, 2003. 128 с.
Баянова Л.Ф., Мустафин Т.Р. Культурная конгруэнтность дошкольника в нормативной ситуации и возможности ее исследования // Современное дошкольное образование. Теория и практика. 2013. № 4. С. 70-75.
Koo H.J., Kwon J.-H. Risk and Protective Factors of Internet Addiction: a Meta-Analysis of Empirical Studies in Korea // Yonsei Medical Journal. 2014. Vol. 55 (6). Art. 1691. DOI: 10.3349/ymj.2014.55.6.1691
Seyrek S., Cop E., Sinir H., Ugurlu M., §enel S. Factors associated with Internet addiction: Cross-sectional study of Turkish adolescents // Pediatrics International. 2016. Vol. 59 (2). P. 218-222. DOI: 10.1111/ped.13117
Yao M.Z., Zhong Z.J. Loneliness, social contacts and Internet addiction: a cross-lagged panel study // Computers in Human Behavior. 2014. Vol. 30. P. 164-170. DOI: 10.1016/j.chb.2013.08.007
Azmi S.U.F., Robson N., Othman S. Prevalence and Risk Factors of Internet Addiction (IA) Among National Primary School Children in Malaysia // Int J Ment Health Addiction. 2020. Vol. 18. P. 1560-1571. DOI: 10.1007/s11469-019-00077-2
Cao Q., An J., Yang Y. Correlation among psychological resilience, loneliness, and internet addiction among left-behind children in China: a cross-sectional study // Current Psychology. 2020. Vol. 7. DOI: 10.1007/s12144-020-00970-3
Rikkers W., Lawrence D., Hafekost J. et al. Internet use and electronic gaming by children and adolescents with emotional and behavioural problems in Australia - results from the second Child and Adolescent Survey of Mental Health and Wellbeing // BMC Public Health. 2016. Vol. 16 (1). Р. 399. DOI: 10.1186/s12889-016-3058-1
Марков А. Эволюция человека. Corpus, 2011. Т. 2: Обезьяны, нейроны и душа. 512 с.
Leung L., Lee P.S.N. Impact of Internet Literacy, Internet Addiction Symptoms, and Internet Activities on Academic Performance // Social Science Computer Review. 2012. Vol. 30 (4). P. 403-418. DOI: 10.1177/0894439311435217
Biederman J., Monuteaux M.C., Doyle A.E. Impact of executive function deficits and attention-deficit / hyperactivity disorder (ADHD) on academic outcomes in children // J Consult Clinic Psychol. 2004. Vol. 72. P. 757-766. DOI: 10.1037/0022-006X.72.5.757
Kuo S.-Y., Chen Y.-T., Chang Y.K., Lee P.-H., Liu M.-J., Chen S.-R. Influence of internet addiction on executive function and learning attention in Taiwanese school-aged children // Perspect Psychiatr Care. 2018. Vol. 54 (4). P. 495-500. DOI: 10.1111/ppc. 12254
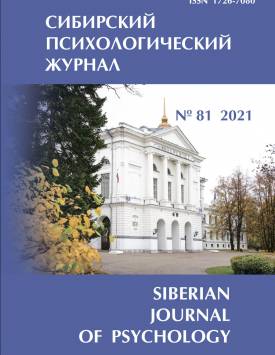

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью